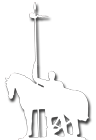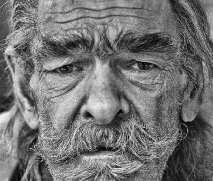На труд по созданию этой книги получено церковное благословление. В ней содержатся новые и избранные стихотворения.
Художник Александр Киреев © Л. И. Терёхина (Дорошина), 2010
Стихи, как предчувствие, очень часто дают информацию о том, что случилось, что будет. Откуда они приносят эти знания? Но знают они всё и заранее. Поэт же «шифрует» эти знания, что-то прячет за словами. Кому дано – тот поймёт все порывы его души и зачем он не пишет «в лоб».
Может, просто бережёт близких, поскольку беречь себя ему не дано.
«Яко скры мя в селении Своем в день зол моих...
на камене вознесе мя».
Пс. Давиду, 26
Часть II
СТУПЕНИ КАМЕННЫЕ
* * *
Жалею ль время? –
я, которая минуты
ловила, как коней за стремена
ловили женщины,..
молящее и запутанно
роняя дорогие имена
на безразличный саван первопутка?
Как в клятву,
что не выверена временем,
и как в неизмеримое молчанье,
в уход минут не верила
и – верила!
Но шли другие, как однополчане,
и стаскивали шапки перед дверью.
У памяти свои, поверьте, правила:
захочешь позабыть, а всё же – помнится.
Ну, а жалеть минуты те не вправе я,
как не жалели уходящей конницы.
* * *
Напрасно почерневший краснотал
серебряную библию листал.
Сквозь тленные и хмурые кусты
просыпались истлевшие листы.
И – грешником – распластан (иль распят
у чьих же пят?) вчерашний листопад.
Мне кажется: не оттого ли вот
так тучами захламлен небосвод,
так нервно прорезается заря
в последнюю декаду ноября.
НОЯБРЬСКИЙ ДЕНЬ
Промёрзшая земля
мерцает виновато.
Вечерний полумрак
распихан по углам.
Раскачивают дом
дорожные раскаты,
мой неуклюжий быт
зарыт в бумажный хлам.
А я смотрю в окно
за поворот дороги,
где белым полотном
закутался закат.
Туда уходит свет,
там света много-много!
Оттуда только темь
воротится назад.
Там ивняковый куст,
как хвост кобылы чалой
маячит за углом
соседского плетня.
..........
Начало ноября,
зимы начало.
В стакане на столе
застрял осколок дня.
ОБОЧИНА
Поутру провели пастухи
поредевшие за зиму стада.
На обочине – деревни тихи
и в калужинах прозрачна вода.
Вдоль дороги, вдоль обочины поля –
прорастают из земли семена.
Это к свету выпускает мать-земля
тех, кто в давние здесь жил времена.
А дорога утопает в грязи,
и засасывает хлябь сапоги.
Если хочешь, по дороге ползи,
а не хочешь, по обочине беги.
На обочине трава-мурава,
одуванчики, полынь, лебеда…
Как хотите, а обочина права,
ибо грязи нет на ней никогда.
В НОЯБРЬСКОМ ЛЕСУ
Как нас опьяняет сосновый настой,
озоном бодрящим пронзающий воздух!
Здесь тянутся сосны косой полосой,
в их кронах загадочно светятся звёзды.
Анатолий Дорошин
В лесу тоска седой обычной пылью
навек укрыла золотой престол.
А облаков распластанные крылья
цепляются за каждый голый ствол.
Дрожат лампады тлеющих орехов,
и длится паутинок чехарда.
И скоро по небесным серым рекам
на землю хлынет стылая вода.
Здесь всё серо. Как будто окись хрома
подёрнула зелёный травостой.
Зачем же мы сюда бежим из дома,
в древесный храм, высокий и пустой?..
* * *
Игорю Быкову
Опять я с тобою – о хлебе.
Ты снова со мною – о Боге.
Разверзлись небесные хляби,
бредём по раскисшей дороге.
Но тянет к заветному месту
незримыми нитями память,
хотя нам обоим известно,
как там тяжело не заплакать.
Кипит одичавшая зелень,
дымятся фосфатные груды
в начале тенистой аллеи
на месте засохшего пруда.
Привидится вдруг на пригорке
Деревня в цветущих жасминах,
и прочерком – страшно и горько –
дорога, ведущая мимо.
РАЗМЫШЛЕНИЯ В ПРЕДДВЕРИИ ОСЕНИ
Протодиакону о. Александру (Горшенёву)
Не слышно пенья птичьего впервой
в древесной кроне, и густой, и тёмной.
К сырой земле бестрепетно и томно
свисает хвост павлиний золотой –
пока ещё единственную ветвь
зажгла звезда Полярная на вязе –
букет для древней византийской вазы?
Привет зимы? Иль увяданья весть?
Ещё чуток – и полыхнёт листва,
под робким солнцем буйно возгорится.
Так осень – своенравная царица –
по всей Руси войдёт в свои права.
Но царствию её недолог век:
сгустятся облака подобно дыму,
разбойный ветер голову подымет,
студёно дунет – и посыплет снег.
Листву обрушив в стынущую грязь,
вдоль всех путей – свидетелей разлуки –
деревья станут. К небу вздымут руки,
звезде полночной истово молясь.
РАЗМЫШЛЕНИЯ В НАЧАЛЕ ЗИМЫ
Выпал снег. На равнодушном белом
нарисуй цепочкою следов
жизнь прошедших до тебя родов,
горький опыт свой заледенелый…
О, как зависит точный счёт шагов,
дорог, друзей, селений и врагов
от длительности этих холодов!
А если бы вдруг сразу потеплело?
Нет, мы публично рук своих не мыли.
Но только лишь над нами свистнул кнут,
взмолились: пусть сейчас не нас распнут!
И весь свой век немы и глухи были…
Ведь, может быть, когда снега сойдут,
зелёный пламень возгорится тут,
и выяснится, что напрасный труд –
надежды наши, страхи и усилья.
Всё, что могло, уже случилось с нами –
распались связи. Ближние миры,
совсем как биллиардные шары,
столкнувшись, хлёстко щёлкнули боками.
Пал занавес? Настал конец игры?
Всё – мимолётно, до своей поры…
Горят рябин горчайшие костры.
Солнц стынущих медовый льётся пламень.
* * *
Пусть отдохнёт мой карандаш,
поносит жёлтую рубашку.
В душе уймётся ералаш,
сейчас невмочь ей нараспашку.
Сейчас душа моя, как ёж,
защитные топорщит иглы:
ты, дескать, как дитя живёшь.
С тобой играют в злые игры.
Любовь свилась в ней, как змея,
сказавшись бабочкой прекрасной.
Прости меня, душа моя,
уроки жизни не напрасны.
Ведь значит, так тому и быть.
Переживу. Перехвораю.
Господня заповедь любить
и есть само преддверье рая.
* * *
Пустота размышлений досужих –
мол, судьба…
Небеса опрокинулись в лужу.
Жизнь – груба.
Белый аист, над Чернобылем
опаливший крыла,
да побасенки: «Жили-были…»,
«Жизнь была!»
Словоблудствуя и блефуя,
жизнь влачим.
Не от печки – от ветродуя
дел почин.
Ну и что, что боюсь морских я
глубь-пучин,
мне из тех, кочевых, из скифских,
треск лучин –
то коптят, то осветят небо
взбрызгом искр.
Иль дорогой моею не был
древний Истр?!
* * *
Зачем в преддверье зимы студёной
так бьётся сердце легко, влюблённо?
Наверно, силам небесным надо
земного счастья впитать отраду.
В миг узнаванья сближая лица,
мы глаз сияньем спешим упиться.
В дрожанье пальцев – телесный опыт,
и слово, сбившееся на полушёпот.
Мерцанье радуг, сполохи света,
их вместе с нами поглотит Лета…
Печально-сладостные мгновенья
любви последней, любви осенней.
* * *
Я ни о чём расспрашивать не буду.
Воспоминанья о прошедшем святы,
хотя на сердце навели остуду
минувшие события и даты.
И ты прими меня без испытаний,
в распахнутые окунись объятья.
Мы всё равно что сёстры
или братья,
и нет меж нами долга или дани.
«До дней последних» – не даю обета.
Моя любовь не ведает пределов,
но пусть впорхнёт хотя б на это лето
в мой дом твоя душа, как голубь белый.
Безумства юности не повторятся снова.
«Года уводят по тропе печали…»
Но нас с собой уже связало Слово,
что было прежде нас, у нас в начале.
АСТРЫ
Я приду в твою позднюю осень
с ярко-жёлтой астрой в петлице
и с букетом самых последних,
белопеннейших хризантем.
Если ты удивлённо спросишь,
почему тебе это снится,
не скажу. Мне ответ неведом.
Вне законов он. Вне систем.
Хризантемы поставлю в вазу,
чтоб могла ты на них молиться.
Бесполезно твой чёткий разум
над загадкою будет биться.
Пусть останется сном и песней
всё, что я на земле приемлю.
Лепестки хризантем небесных
белоснежьем укроют землю.
Мы ведь знаем совсем немного.
Здесь всего-то и есть земного –
ваза, жёлтая астра в петлице
и молчанье, что длится, длится…
* * *
Раскинет ночь над нами чёрный плат,
и уйма звёзд повысыпет в прорехи.
В твоих глазах оплавится закат
оранжевыми искорками смеха.
И снежно-белый яблоневый сад
опять, как встарь, наполнится любовью.
Ладони – нет прекрасней изголовья!
… Жаль, невозможно всё вернуть назад.
* * *
Утешаюсь: любовь – не грех.
Так случалось у всех поэтов.
Подавляя свой горький смех,
Маяковский писал «Про это».
И ахматовская печаль
осыпалась, как с неба манна.
И вселенскую боль и даль
скрыли блоковские туманы.
И цветаевский взгляд свысока
до зияющей стёрла дырки
нержавеющая доска
беспощадной житейской стирки.
В нелюбви – не твоя вина.
И стихи – не моя заслуга.
Не хмелеть мне впредь от вина.
Я сейчас потеряла друга.
МОЙ ГЕРОЙ
А мой герой – он вовсе не герой.
Фантом.
Моей души изобретенье,
что стало для меня добром и злом,
а может, станет тенью.
Просто тенью
моей – покуда солнечные дни
иль фонарей рассеянные светы.
А без меня, сколь ни пали огни,
сколь ни ищи, её не будет.
Нету.
Ну а в такие пасмурные дни
все воедино слившиеся тени
мир затопляют в непролазной тине.
По ней поэты странствуют одни
в надежде встретить собственную тень
иль обрести потерянную братом,
чтоб снова рассветался ясный день
и повторялся впредь тысячекратно.
РАЗГОВОР
На целую жизнь ещё хватит
в стихах не затронутых тем.
Слова утопают, как в вате,
в коралловой мякоти стен.
А где засыпают просторы
нестойким покровом снега,
конца нет иным разговорам –
неведомы им берега.
Там в сердце голубкою белой
нисходит из глуби небес
любовь, воскресившая тело
во имя грядущих чудес.
Случайно, возможно, нелепо,
затеянный там разговор
стал мною и тычется слепо
в коралловый твой коридор.
Прости, он смешон и наивен
в душевной своей наготе,
сидел бы, как галка на жниве,
иль спал на тетрадном листе.
Зачем он, и что ему надо,
нет смысла шататься в ночи,
и так получил он в награду
за верность от счастья ключи.
Но с ними не знает, что делать,
где та потаённая дверь,
что мечена крестиком мелом.
Там можно укрыться теперь,
считая себя виноватым,
лишь в том, что лелеял мечты,
от всепоглощающей ваты,
от сонной стенной глухоты.
* * *
Досуг украсят праздные беседы,
а праздники – досужие обеды.
Вера Дорошина
От обедов твоих я бежал, как от сущей беды.
От обетов твоих в сердце вытерты даже следы.
Слёзы высушил ветер. Распахнута новая даль.
Мне кострищ прогоревших, залитых дождями, не жаль.
Ну и что, что в округе спалили мы все кизяки?
Отдохнувшие кони опять будто ветер легки.
Только – в разные стороны, в необратимую даль,
с чёрных грив отряхая осевшую пеплом печаль.
* * *
Отболит, отвалится короста,
новой кожей рана обрастёт.
Буду жить размеренно и просто
и смотреть с надеждою вперёд.
У моей надежды цвет индиго,
искрами по сонным водам – мёд.
Жалко, тот, кого считала другом,
горечи медовой не поймёт.
Всё растащут яростные осы
по прибрежным временным домам,
утоплю я в омуте вопросы,
что хочу задать, но не задам.
Утаю под берегом ответы,
что он ждёт услышать от меня…
«Всё, – скажу,– моё начало лета.
Лишь моё, – с сегодняшнего дня».
* * *
Мне одиноко. Нет тебя со мной.
Вдруг опустилась в сердце пустота.
Бессонница. Дневная суета.
Завесил август небо пеленой.
Завесил август небо пеленой.
Даль не ярка, а призрачно-туманна.
И прошлое мне видится обманным,
как будто было вовсе не со мной.
Как будто было вовсе не со мной:
горячих губ к губам прикосновенье
и те неизъяснимые мгновенья,
полынным привкусом смягчающие зной.
Полынным привкусом смягчающие зной,
степные ветры непрерывно дуют,
вздымая пыль песчаную, седую.
Она засыплет скоро город мой.
Когда она засыплет город мой,
утихнет ветер и угаснет память.
Ну а пока я буду петь и плакать,
вдыхая близкой осени настой.
ТВОИ СЛОВА
От них плыла когда-то голова.
Они касались сердца моего
твои слова,
слова,
слова,
слова…
Твои слова не значат ничего.
Разбилась амфора – сокровище друзей.
Стекла в подполье сортная пшеница.
Осколки клеить – стоит ли трудиться?
Ну, разве, чтоб отдать её в музей…
Ей-ей, тебя в невежестве винить
ни права не имею, ни охоты.
Ты предпочёл существенное что-то
возможности в согласье с небом жить,
надеясь, что твой путь определён
и обозначен путеводной нитью,
но можно впасть в обман и вражий плен,
когда идёшь, доверившись наитью.
В полях у нас не вызреют хлеба.
Зерно бесплодно прорастёт в подполье.
И не причастна к этому судьба.
За выбор свой здесь все мы платим болью.
ПЕСЕНКА ПОЭТА
Что со мной происходит – неважно,
и не стоит заботиться вам.
Уплывает корабль мой бумажный
к незнакомым другим берегам.
Мне маяк помигает приветно,
пожелает семь футов в пути.
Знает он: от любви безответной
никуда не уплыть, не уйти.
Она плещет под ветром, как парус,
ловит в небе тугую струю,
Это вы – обручённая пара.
Я всего-то лишь песни пою.
Истончают обычные строчки
с жизнью нас повязавшую нить.
До последней поставленной точки –
ровно столько отпущено жить.
Вековечная участь поэтов –
не печалить любимых ничем.
Все сгорают они, как кометы,
в атмосфере наземных ночей.
Потому мой кораблик бумажный
и уходит во мглу от огня.
Я пою. Остальное неважно.
Вот таким вспоминайте меня.
ПОЧТИ ВИРТУАЛЬНО
Над улицей, где серые домишки
укрылись, как скворечники, в ветвях,
столь белоснежной от цветенья вишен
или зелёной, в золотых шарах,
иль жёлто-рыжей, в крапиах багряных,
а то седой, в подтёках жирных брызг,
меж снами и реальностью по грани
скольжу.
Но как ни вглядываюсь вниз –
не вижу дома, Зои, бабы Дуни,
и огонёк не светится в окне…
Там темнота. Тоскливо ветер дует.
Оттуда ветки тянутся ко мне.
И день за днём, просвистывая мимо,
невозмутимо строятся в года.
Там гаснут звёзды, лица, города…
в ряду моих потерь невосполнимых.
Вот всё исчезло в кипени снегов.
Зашторен в окнах тихий белый свет.
А что не слышно вам моих шагов –
так и меня уже почти что нет.
* * *
Своих стихов особые приметы
не ставлю я в заслугу словарю.
Когда на город наступает лето,
я: «Лето наступает», – говорю…
Настало лето враз, без промедленья,
без подготовки, не подавши весть,
и никаким мудрёным измереньем
случайных изменений не учесть.
Я горстью земляники недоспелой
недоуменность взгляда отменю.
И улыбнусь.
Сначала – неумело,
мгновенно изменившемуся дню.
Войду в него доверчиво, открыто
и словаря переступлю порог,
как-будто напрочь мною позабытый,
но некогда заученный урок.
НЕПОСТИЖИМОСТЬ
Прохожие большого города,
предугадав ваш строгий суд,
над вашей вечной спешкой голову
так неосмысленно несу.
И ни сутулиться, ни хмуриться
я не хочу под шум машин.
Передо мной качает улица
текучку ваших лиц и спин.
Не мне в обыденности прочной
из ночи –
в день, и снова –
в ночь
обязанностей список точный
с серьёзной миною волочь.
Да! Я бывала к вам причастна,
когда, спеша, ругалась всласть…
Но есть непостижимость счастья
и неосмысленности власть.
* * *
Мне не надо чужого времени,
как не надо чужого знамени,
как не надо чужого имени,
как не надо иной судьбы.
Пусть в ней было щедрот немного,
но под щедрой опёкой Бога
я иду. Впереди – дорогу
верстовые метят столбы.
Влево-вправо уводят тропы
тех, с кем шла я. Года торопят:
впереди ждёт последний опыт –
там тропинки моей строка.
Кличут ветры меня по имени,
дни сгорают в сердечном пламени,
а о ночи той будет знаменье…
Я в дороге. Иду пока.
* * *
Я три порога жизни перешла,
перед четвёртым встав в недоуменье:
стал горьким мёд и сладкими коренья,
слабее слух, и зренье, и колени,
и скрыла тень сияние чела.
А ты, так скромно став невдалеке,
мне говоришь, что это – результат,
его вовек не перевесит опыт,
не взятый суеверно напрокат
у более успешного кого-то,
что весь он умещается в руке…
В моей руке – остывший уголёк,
добытый из костра самосожженья.
А за порогом – облаков скольженье,
шагами не измерить и саженью
небесный путь – незрим он и далёк.
Там, ангелом ведома и хранима,
по тверди удаляясь голубой,
я начертать твоё успею имя
на облаке, плывущем мирно мимо, –
последнее, что заберу с собой.
* * *
Как вначале: АЗЪ да БУКИ.
Глушит звуки снежный свет.
Ни свиданью, ни разлуке
в зимнем царстве места нет.
Неизбывность. Неизбежность.
Невниманье. Непокой.
В снеге скрыты злость и нежность,
в нём надежды – никакой.
То ли дело – птичьи трели,
солнце, талая земля,
и в зелёной канители
луг, и роща, и поля.
День-деньской в саду судача
у совхозной каланчи,
обустраивают дачи
чернокрылые грачи.
То ли дело, если разом
вспыхнут пролески в траве,
если ум зайдёт за разум
в многодумной голове.
И по ветру – в одиночку
или стайкой брызнут в синь,
на меня просыпав строчки,
жаворонки: динь-динь-динь.
* * *
Я тебя не стою. И не строю
замков на песке.
Китеж мой не скрылся под водою –
тает стылой льдинкою в руке.
Много снегу выпало на святки.
Нет пути, пробитого по льду.
Снегири в кустах играют в прятки…
Разве я на берег твой пройду?
Утону в сугробах без дороги.
Может, лучше повернуть назад?
Древние языческие боги
из лесу сочувственно глядят.
Надо мною – высоко-высоко
гулкие звонят колокола,
высохшая шелестит осока,
вплоть до горизонта – даль бела.
А над ней – в неимоверной сини
громоздится облаков гряда –
ангелы, наверно, заселили
там твои чужие города.
И трубят в воинственные трубы,
путь нелёгкий предрекая мне…
Где-то обочь горлица-голуба
горестно рыдает на сосне.
* * *
И заслушаюсь я.
И умру от любви и печали.
А иначе зачем на земле этой вечной живу.
Булат Окуждава
Качалась музыка печальная
в ветвях седеющих дерев –
листвы ль мелодия прощальная,
иль ветра тягостный напев.
Земля томилась в увядании,
и синий свет стекал с небес.
И в вашем тихом «До свидания»
угадывалось «Можно без…»
Зима укроет травы ржавые
и листьев обгоревших прель,
февральских снегопадов жалобы
заглушит вешняя капель.
Сад затаится в ожидании
любви, но только не для нас.
И чтоб не длить момент прощания,
я молча отойду от вас.
Ведь всё когда-нибудь кончается.
Свой срок звезде, любви, траве…
Пусть только музыка качается
в моей остывшей голове!
СЕНТЯБРЬ
На проводах высоковольтной линии
перед отлётом птицы собрались.
Стал, выбеленный затяжными ливнями,
небесный свод похож на нотный лист.
Сентябрь даёт прощальные гастроли:
пюпитры сосен, арфа паутин…
Он выступает в дирижёрской роли
и управляет музыкой – один.
Печальная гармония в природе –
дрожат подвески клёнов и осин,
и грядки в опустевшем огороде
звучат совсем как старый клавесин.
ПО ДОРОГЕ НА ВЬЯСС
На Вьясс – привычно – пешим я
бреду. Но как впервой,
Айва в протоке плещется
под кручей меловой.
Гудят стволы сосновые
в просторах ветровых,
белеют кости воинов
в корнях разрыв-травы.
А на холме распаханном –
ракушек, ростров сонм
и в писчий мел эпохами
спрессованный планктон.
Здесь Юрского периода –
шагнёшь – пружинит мох,
здесь поле по периметру
теснит, сжимает лох.
Здесь солнце –
птица вещая
во мглистых облаках –
в полнеба крыл трепещущих
оранжевый размах.
МЕЛЬНИЦА
1
Крутят мельницы крыла
ветры века яро.
В чистом поле рожь цвела –
стало поле паром.
Рек небесных рукава
стряхивают морось.
Лезет сорная трава
озорно и споро.
Сквозь неё теперь едва ль
ниве прорасти.
Быстро смелют жернова
зёрна радости.
Запустевшие пути
канут в никуда.
И зачем по ним идти,
если некуда?
А в свидетели тоски
ворона зови.
Ой, как дали широки
здесь, где нет любви.
2
Не судьба им прорасти,
как в лугах трава.
Зёрна радости
смелют жернова.
Так и выстынет – пуста –
душа-странница.
Слово выстонут уста –
что останется?
За деревней на юру
мелет мельница.
Даже если я умру,
что изменится?
У дорожного креста –
всем попутчица.
Вдруг да с чистого листа
жизнь получится?
НОЯБРЬСКИЙ ВЕТЕР
Зря мельница-судьба смолоть пыталась
на жерновах работы и утрат.
Душа такой, как в юности, осталась –
люблю смотреть на звёзды по утрам.
Блуждавшая средь городского ада
в холодном равнодушии реклам,
я на юру стою и ветру рада –
он гонит листьев отгоревших хлам,
сметая их в сухой бурьян под кручу,
взвихряет пыль, бесчинствует – держись! –
и гонит прочь собравшиеся тучи
ноябрьский ветер, яростный, как жизнь.
* * *
Как бережно стелет мне белый путь зима,
как мягок и добр со мною этот февраль.
Вплоть до горизонта только белая даль,
а за горизонтом встречу я месяц март.
Там углем – ворон на белых полях полян,
сангиной – на тонком сером холсте небес –
рисует первая оттепель влажный лес,
кусты краснотала походя подпаля.
Там кажется, что не будет впредь ноября,
не будет пугать нашествием вьюг зима,
что прошлая боль была испытана зря,
что прошлую грусть придумала я сама…
ЗИМНИЙ МОТИВ
Зимы весёлый свет.
Зимою город бел.
Весёлый зимний бес
в нём мутно вяжет след.
Горящих окон рой
среди древесных грив
да песенки простой
навязчивый мотив.
Асфальт скользит слегка
по нашим каблукам…
Не ведаем пока,
что жизнь готовит нам.
Я напрягаю слух:
приглушен ветра стон.
Снежинок колкий пух
летит со всех сторон,
сгущаясь, на глазах
свивается метель,
и белых крыл размах,
невиданных досель,
вздымает снежный пласт
с асфальта до небес.
..........
В том городе нет нас.
Как грустен зимний бес…
МАСЛЕНИЦА
Нежная графика русской зимы:
снежная осыпь небес,
тихо растут над деревней дымы,
как заколдованный лес.
Маслену празднуют днесь земляки –
в печках пекутся блины.
Зимние дни всё ещё коротки.
Тёмные ночи – длинны.
Где-то натужно скрипит журавель,
кажется,
тысячу лет.
И исподволь заметает метель
всякий проторенный след.
Светлая, меркнет вдали полоса –
сумерек промельк, просвет…
Тише и глуше звучат голоса.
Гаснет за окнами свет.
Тащится по полю лёгкий возок.
Дремлет возница хмельной.
Запорошённый конёк-горбунок
знает дорогу домой.
МОНОЛОГ ЕЛИ
Я прошла предельный возраст –
полный жизни передел.
Бор густой мой поредел.
Так вольготно жить и просто –
елей выживших удел.
На траве иголок кучи,
встретишь изредка цветы,
да и стайки птиц летучих
опускаются в кусты,
что пожиже, что пониже,
к нашим лепятся стволам.
Птицы любят их. Кусты же
век не делят пополам.
В год у них ребячий вырост,
нет иголок на плечах…
Вырубают этот хворост,
чтоб согреться, жгут в печах.
Ну а нам наш возраст поздний
был отпущен потому,
чтоб ночами слушать звёзды
было под небом кому.
ИЗ ДЕТСТВА
Где-то ходят за черникой,
где-то за морошкой,
а у нас – за земляникой
в дальние отрожки.
Тех отрожков у оврага –
перечесть – не хватит дня.
Кличет девичья ватага
вновь по ягоды меня.
По отрожкам самым ближним
пастухи пасут стада,
потому трава там жиже –
ягод нету и следа.
Дальше – редкие полянки
с земляничною листвой.
Там – покосные делянки –
чабрецовый травостой.
Вдаль уходим – полем, лугом…
Мухи, оводы, жара.
По коровьим тропам – цугом,
дружной стайкой – по буграм.
Тонкий звеньк полуведёрок,
говор, хохот, толкотня…
Долог путь, дойдём не скоро –
дай Бог, к середине дня.
Но зато у тех отрожков
ледяные родники,
но зато на тех отрожках
земляничные платки.
Мать-земля весной их ткала,
изукрасила зело,
и под солнцем раскатала –
стало солнцу весел?.
Солнце глянуло довольно
на владения свои
и рассеяло по полю
земляничные рои.
Обойдём мы все пригорки,
ничего, что жёсток зной.
Как наполнятся ведёрки,
так отправимся домой.
* * *
Прекрасен мир,
в котором есть друзья,
а не враги,
хотя в бою открытом
и первые мы делаем шаги,
и постигаем правила защиты.
Прекрасен мир,
когда в нём нет беды,
когда стрижи
мелькают в небе синем,
когда в ночной траве
шуршат ежи…
Прекрасен мир,
когда нет в мире лжи!
СОЛОВЬИ
Л. Горюновой
Сирень привиделась во сне –
свежа, роскошна, чуть печальна…
Недоумённо жмёшь плечами –
знать, не был в нашей стороне.
Когда там буйствует сирень,
средь кущ черны и душны тени,
там льётся из ветвей сплетенья
лунноголосый зов сирен…
– Сирен? Совсем не Одиссей я,
мне чужды бурные моря.
Про вашу нищую Расею
«Повымрет скоро» – говорят.
Есть Божья воля. Все дела
людские суд рассудит Божий.
Поглотит наше бездорожье
сгустившиеся силы зла.
Устлал уже невзрачный птах
пушком гнездо для соловьихи, –
что им годин разбойных лихо, –
есть дом в сиреневых кустах.
К благоразумью не зови.
Покуда в жилах кровь трепещет,
пусть вместе с песней горлом хлещет
Любовь, с любовью, о любви…
Забудь про все дела свои –
сквозь грозы майские и ливни
зовут любых сирен призывней,
нежней и слаще соловьи.
ЗВЕЗДОПАД
Вот опять звездопад за речкою –
мой семнадцатый звездопад.
И на чьи-то тревожные речи я
отвечаю совсем невпопад.
Никого не желаю высмеять,
ничего не хочу сейчас –
на себе поднимают ввысь меня
звёзды, падающие на нас.
И, как будто бы так возможно,
или снится мне наяву –
опускают опять осторожно
на сырую от рос траву.
И на чьи-то тревожные речи я
отвечаю совсем невпопад…
Вот опять звездопад за речкою –
мой семнадцатый звездопад.
В МАЕ
Произволу майских туч
подчиняюсь. Глупо спорить.
Ливень быстр, а дождь – летуч,
там и сям дождинки сорит.
Прибивает споро пух
одуванчиков к бордюрам.
Первый гром, как увертюра,
приучает к грозам слух.
Хорохорится листва
молодая в старом парке.
С ней, ватолу туч прорвав,
солнца луч играет яркий.
Всё в движенье. Всё в цвету –
вишни, яблони, каштаны,
дух сирени – за версту
слышен – горьковато-пряный.
Так не хочется спешить
с неотложным скучным делом,
если можно просто жить –
плыть в дыму зелёно-белом.
Может быть, небесный ключ
с сердца смоет боль и горечь…
Произволу майских туч
подчиняюсь. Глупо спорить.
МАЙ
Только в мае такое бывает:
в бело-розовой нежной метели
то ли к жизни душа оживает,
то ли жизнь пробуждается в теле.
Зарождается тайная радость
в небесах и пронзает пространство.
Изменяется мир – так и надо,
потому что мертво постоянство.
А когда у зимы на постое
сердце в лёд превращалось от боли,
мне не верилось: дело пустое –
править чувством, в котором не волен.
Все потуги мои и попытки
изначально вели к неудаче.
Были сущим подобием пытки,
ничего в мёртвом мире не знача.
Пусть о промысле Божьем не знаю.
Вторят маю и чувства, и строки.
Словно заново жизнь начинаю –
на какие – не ведомо – сроки.
КУКУШКА
Кукует кукушка.
Июньскому ветру вольготно
на бархатных нивах зелёных
земных и небесных
пасти облака и их быстро бегущие тени
в столь непредсказуемых
их превращеньях чудесных.
Кукует кукушка.
И в кипени белых черёмух,
презревших запреты
железных оград и заборов,
почти утонул
наш заштатный скучающий город –
лишь маковки храма сверкают
в бескрайнем просторе.
Кукует кукушка.
А я всё чего-то болею.
Отец раскладушку раскинул
в тени за сараем.
Цикорий зацвёл.
И далёко – у самого края
земли – с небосводом
поляна слилась голубая.
Кукует кукушка
на буйной отцовской раките,
мол, долго живите!
Я годы считаю, считаю…
По нашей окраине улица вьётся пустая.
Кукует кукушка.
Зерном подавилась. Устала.
ВОСПОМИНАНИЕ О ПЛЕНЭРЕ
Б. Д. Борисову
Нерасторжимо нас связали узы
из волшебства поэзии и света.
Таким необязательным предметам
не посвящали лекций в строгих вузах.
Влекла к себе нас даль лесостепная.
Ручьёв и тропок расплетались ленты.
Мир открывался без конца и края
в то умопомрачительное лето.
Застрявший в кронах придорожных вётел
горячий ветер, утор, небосклон –
то грозовой, то сумрачный, то светлый –
ложились на грунтованный картон.
Там грузовик, ныряя на ухабах,
пылил по тракту в жёлтом море ржи.
Нас на телегах обгоняли бабы,
над нами воздух резали стрижи.
Навозный жук, тропу переползая,
убраться торопился в темноту,
а его спинка чёрно-золотая
зелёным отливала на свету.
Хоть нас по свету ветры разметали,
и лебедой те тропки заросли,
на том лугу купавы отцветали,
а на холсте досель не отцвели.
* * *
Разговор припомнится
или взгляд примстится –
не изжить бессонницы,
пачкая страницы.
Стрелки скачут за полночь –
время плакать.
Ветры тащут с Запада
сырость, слякоть.
В заоконной мякоти
чёрно-бурой
сонно или нехотя
кружатся фигуры
в лёгком облачении
нематериальности
с матовым свечением
мира и реальности.
Ночью, с сердцем раненым,
трудно быть мне мудрою.
Запасла заранее
пластырь дрёмы утренней.
С ней забыть мне надо бы
морось наваждения,
чтоб заветом радужным
стал наш день рождения.
* * *
Чтоб поймать золотую рыбку,
не нужна золотая сеть.
И ловить я её не буду –
мне довольно в воду смотреть.
Ах, как радужно там и зыбко,
чуден тихий подводный край!
Золотая рыбка оттуда
приплывёт, попросит: «Сыграй!»
Твой зелёный свисток из ивы
горьковато прильнёт к губам,
и пронзительным переливом
потечёт судьба по волнам.
Нам неведом и миг грядущий,
что гадать про дни и года!
Только вслед за судьбой и души
уплывают Бог весть куда.
Не печалься, свисти с улыбкой,
пусть на гребне шальной волны
попадёт золотая рыбка
в колдовские сети луны.
* * *
Памяти отца
Сна наважденье, тягостный обман:
упорно языком шершавым, ватным
сугробы лижет мартовский туман,
как будто жёлтый сахар ноздреватый.
Слегка мездрой шибающим сырцом
он хрумкает и чмокает от сласти.
А мы в сарае возимся с отцом –
рыбацкие перебираем снасти.
Он вяжет леску к удилищам длинным –
уже опасным стал подлёдный лов –
лёд на стремнине туго выгнул спину
и отошёл от чёрных берегов.
А к берегам – едва спадёт вода –
сползутся греться старые коряги,
и буду я, гордясь, носить всегда
вслед за отцом бидончик с пескарями.
…Но,как тот лёд, стаяли года.
И вот – лишь холмик над рекой на родине,
оградка, чёрный памятник, звезда.
Ещё там много будет половодий.
Отца не будет только. Никогда.
* * *
Комната простыла в январе,
и под звон серебряной метели
дни к весне, как птицы, полетели.
Перевёрнут лист в календаре.
И, покинув комнату свою,
где страницы строчками марала,
где надежда тихо умирала,
я теперь на улице стою.
Дом в снегу, как шелковичный кокон.
Что запомнит мой прощальный взгляд –
моего окна слепой квадрат,
золотые соты чьих-то окон?
Паутину скорби сняв с лица,
женщина из глубины балкона
выпускает с поднятых ладоней
безотчётной радости птенца
и его немыслимый полёт
проследить пытается напрасно.
Главное, в глазах растаял лёд,
снова жизнь становится прекрасна.
И в метельной глубине двора
я, свидетель этой перемены,
может быть, поверю: непременно
ждёт меня счастливая пора.
МАРТОВСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
В оранжевой мартовской луже,
где меньше воды, чем мазута,
купалось закатное солнце,
дрожа и бледнея от стужи.
Над ним на железной опоре
фонарь трепетал, умирая,
казалось, его ослепляет
оранжевых бабочек стая.
Сползались холодные тени
и мрачные тучи сюда,
где март потихонечку тенькал
капелью под корочкой льда.
БЕЛЫЕ МУХИ
В сером лёгком пиджачке
приютившись на сучке,
что скукожился, воробушек?
Вьюга больше не воротится.
Это белых зимних мух
канитель последняя.
Завораживает слух
звень ручьёв подлёдная.
Ты мне на слово поверь:
сменит праздник будни.
Отогреет от потерь
солнышко к полудню.
А пока лети, дружок,
греться под застреху.
Этот мартовский снежок
выпал так, для смеху.
АПРЕЛЬСКОЕ СРАЖЕНИЕ
Тропками ручьёв весенних,
так беспечно зазвучавших,
переполненных весельем,
рыщет ветер перемен.
Ищет выхода из чащи
не проснувшегося бора,
походя колышет чаши
полых вод – пруды, озёра.
на простор полей прорвавшись,
свистнет вдруг озорновато
и помчится – знай, мол, наших, –
от рассвета до заката.
Как стада, нагонит тучи.
Поутихнет ближе к ночи.
Переменит направленье,
как батыевский тумэн.
Утром – снова в наступленье.
А пока за сонной рощей
он костры зарниц полощет –
ветра короток постой.
Отдохнёт и с новой силой
на простор ворвётся – с тыла,
опрокинет фронт холодный
воеводицы лютой.
* * *
Якову Танину
В новорождённой роще с вечера,
как лопоухие щенки,
носы – под лапы, спят доверчиво,
сопят кленята-сосунки.
Предутренней росою краплены,
ночным задеты холодком,
кленята, вздрагивая каплями,
сосут тумана молоко.
И ветки тянут, как из качки,
под убаюкиванье дней,
и всё не как у нас, иначе –
законы проще и честней.
Но скоро, на исходе века,
новорождённой рощи сон
нарушен будет человеком:
он землю закуёт в бетон,
и там, где ветки клёнов машут,
наивный и тщеславный, он
своих многоэтажных башен
воздвигнет новый вавилон.
* * *
Сморгнув на землю капельки дождя,
ресницы солнце опускает ниц.
И в новый день доверчиво входя,
среди разнообразья спин и лиц
непроизвольно я ищу тебя.
А ввечеру, спеша домой обратно,
я радуюсь соседским голубям,
парящим в синеве над голубятней,
и думаю: они смогли понять,
что вольным птицам в жизни надо мало –
лишь голубятню на небо сменять,
как я печаль на радость поменяла.
Теперь в великодушье ноября
сквозит великолепье прежних лет:
безудержный из них пролился свет,
и полыхнула поздняя заря.
НА РОДИНЕ
Вольный ветер! То сбоку, то сзади
налетит, то в лицо, хохоча,
бросит горсть ледяных виноградин,
их стряхнув у берёзки с плеча.
Он чудит, и на сердце отрадно
от его молодой колготы.
И небес пестрядинное рядно
вдоль дороги пятнает кусты.
Пусто в поле. Безлюдна дорога.
Хочешь – молча иди, хочешь – пой.
Мне до дома осталось немного.
Много лет я стремилась домой.
Не прошло ль здесь какое-то лихо?
У оврага приткнувшись, седа,
спит деревня так глухо и тихо,
как при мне не спала никогда.
По пригорку в древесную кущу
в домовине уносят кого?
Ой, тоска, не крути мою душу!
Даже дома здесь нет моего.
* * *
Такого стоило труда
отзимовать, дождаться мая.
И вот отхлынула беда,
и зародилась жизнь иная.
Душевной боли и тоске
пришло на смену пониманье,
что дом не строят на песке,
что счастье – дудочка в кармане.
Достань и приложи к губам,
вдохнув в неё живую душу,
авось, заслушавшись, судьба
плен одиночества порушит.
Не зря же осадила город
необоримая орда
туч грозовых. Начнётся скоро
дождя и молний чехарда.
Когда вскипит вода в огне
азартно, молодо, бурливо,
нельзя остаться несчастливой
иль отстояться в стороне.
* * *
Голубые пластины окошек
Ослепило закатное солнце.
Пух снежит с тополей
Сквозь зелёную облачность крон.
И июнь молодой
В окруженье беременных кошек
В узких улочках вьётся,
Как долгий навязчивый сон.
Он на грани сознанья
Скользит и сливается с маем.
Только зря ты жалеешь,
Что весна не вернётся назад,
Что любовью звалось,
Как-то вдруг обернулось страданьем.
Так, огонь поглощая,
Холодные окна горят.
* * *
Принцы только такое…
А. Ахматова
То ли мир очнулся ото сна,
то ль зимой он сходил с ума –
оживила город весна –
строит солнечные дома.
Небосвод раздвинулся вширь,
как легко плывут облака!
Я совсем не хочу в монастырь
да и замуж за дурака.
Принц, ты зря приготовил речь –
я не буду помнить её.
Шуба прошлого сброшена с плеч –
мне не свято имя твоё.
На тебя обид не держу.
Знаю: ты – из высоких лиц,
но не знаешь, что я вхожу
в узкий круг записных цариц.
* * *
Неумолчный посвист синицы
на старой ветле за окном.
Я знаю, ты мне будешь сниться
в обличье всегда молодом.
И хлынут слова на бумагу
из сердца горячей струёй.
Когда расставания благо,
накроет меня с головой,
сиротство своё и свободу
до дна осознать не успев,
снесу на потеху народу,
как нищий, в заплечной суме.
И кто-нибудь, книжку листая,
процедит: «Какой в этом прок?!»
Своих я теперь не читаю
от сердца оторванных строк.
О СЕБЕ
Ты сказал, что не надо писать о себе.
Говорить о себе можно только с бумагой,
не считая свой дар ни бедой, ни отвагой.
Видно, так было надо зачем-то судьбе,
чтоб поэты твердили всегда о себе,
обращаясь в других, в небеса, даже камень,
и несли эту ношу по жизни, веками
дребезжа на тимпане, трубя на трубе…
Мне досталось свистеть на бузинной свирели,
издали не услышишь, вблизи – не поймёшь,
отчего и зачем эти грустные трели,
почему в её тельце томленье и дрожь.
Если спросишь, ответа сама я не знаю,
как не знаю, зачем это сталось со мной.
Просто дырочки пальцами перебираю,
просто дую легонько в мундштук вырезной.
РАЗГОВОР С ОТРАЖЕНИЕМ
Твой бог – добро земное на земле.
Мой воплощён в нематерьяльном слове.
Всё жаждешь ты отдаться и сомлеть,
совокупленье ощутить, как внове.
В вещественной кумирне у тебя
верховный бог – семяносящий фаллос.
Из глины Бог лепил нас. Но, любя,
как вдунул душу – тайною осталось.
О человеке знать нам не дано –
был замысел иль вышло так случайно.
Любовь, и Бог, и Слово – всё одно.
Душа же – вечный сторож этой тайны.
Ты думаешь: начало всех начал
заключено в соитье человечьем,
что это монумент любви извечный.
Но глина – столь непрочный матерьял!
* * *
Как ныряльщик с болезнью кессонной,
на скалистом сижу берегу –
в одиночестве ночью бессонной
в сердце скрытую боль стерегу.
Всё кувычет какая-то птица,
волны в пенной шипят бороде,
и луна позолоченной спицей
вяжет невод в остывшей воде.
Если б понял ты, как я устала
ждать и верить, забывши о сне!
Жалко, нет в моём море русалок –
вот была б собеседница мне!
Мы бы молча с ней плыли и плыли
к островам, где не вянут цветы,
где любили мы, где нас любили…
Но, увы, это только мечты.
Не стучись в моё сердце, не надо,
камнепадом завалена дверь.
И, наверное, я даже рада:
всё моё в круговерти потерь.
НА РЕКЕ
Досель плыла я наугад
на лодочке в одно весло,
водоворот иль водопад
не угрожал мне – так везло.
В разгуле полых вод весна
взбунтила тихий омут чувств.
Под днищем лодки нету дна,
и долгожданный берег пуст.
И не пойму,
кому назло
иль от какой иной нужды
зачем-то в голову пришло
веслом не бороздить воды,
а разобраться: сон иль явь
отпущенные жизни дни…
Я до земли могу и вплавь,
раз гаснут бакенов огни.
* * *
В этом мире всё кончается.
Взять любовь – была зачем?
Тополиный пух качается
в светлом солнечном луче.
Подступило тихо лето.
Майский кончен цветопад.
Говорят, нельзя поэтам
без любви – такой расклад.
Жизнью что кому даётся.
А итог банально прост:
ничего не остаётся,
разве что мерцанье звёзд
из незримого предела
в нескончаемой дали –
для души. А что до тела –
просто в нём она болит.
* * *
Ты будешь ждать вечера.
Я буду ждать дня.
Вместе же ждать нам нечего
у одного огня.
Тихо увянет жёлтая,
жгучая роза костра,
и в золу будет смолото
всё, что было вчера:
вражье ли наваждение,
Божья ли благодать –
в спешке перерождения
я не могу понять.
Теплится в углях преданность
вместо любви святой.
Вера инстинктом предана.
Сумрак в душе пустой.
Чем она вновь наполнится –
оповестит заря.
Знаю лишь: будет помниться
ночь, где костры горят.
ВЕЧЕРНЕЕ
Вечерний тихий свет
вливается в окно,
возможно, в нём ответ,
искомый мной давно –
лишь на один вопрос:
а прав ли кто из нас?
Наивен он и прост,
но как прочесть сейчас,
когда лишь боль в груди,
когда в глазах – тоска,
а в голове гудит
прощальное «Пока!»
А что «пока» – невесть…
И будет что потом?
Какую солнце весть
мне посылает в дом?
В следах его игры
разгадки нет как нет.
Хотя… как мир, стары
вопрос мой и ответ.
* * *
Лодку весёлые волны качали.
Чайки кричали.
Всё ещё было возможно в начале.
Многая знания – много печали.
Лодка рассохлась. Забита песком.
Вот всё, что сталось с нею потом.
«Многая знания – много печала».
Если бы это мы раньше узнали!
Вёсла б сушили, а лодку смолили,
цепью крепили в шторм у причала.
«Много печали – любви было мало!» –
Чайка нам вслед из-за туч прокричала.
ПОСЛЕ ПРОСМОТРА
ТЕЛЕКЛИПА О КОФЕ
На дорогу пролит кофе мокко
с проблесками сливочного цвета.
Здесь весна. А в Африке далёкой
всё ещё владычествует лето.
В Африке – слоны и попугаи,
а ещё там много есть такого,
чего я вовеки не узнаю
и не обозначу русским словом.
Впрочем, жизни внешность и изнанка
здесь мне тоже не всегда понятны.
Скажем, почему на Солнце – пятна,
почему мне грустно спозаранку?
И зачем стихов толстеет кипа,
а душе легко и одиноко?
Жизнь стократ короче телеклипа,
не при чём в ней Африка и мокко.
Если только, годы подытожив,
проморгнув последние моменты,
я отправлюсь жить на чернокожем
опалённом солнцем континенте.
* * *
Чьи-то пальцы лепили из глины
для хозяйства обычный горшок,
а дактилоскопических линий
даже пламень костра не пожёг.
Приставали здесь к берегу греки,
скифы жгли кочевые огни,
но о том гончаре, человеке,
ничего не расскажут они.
Ну а этот невзрачный осколок,
что ладонь остужает слегка,
помнит всё. Только очень уж долог
путь его был сюда – сквозь века.
То ль волной его вынесло море,
то ли осыпь стареющих гор…
Пусть о том археологи спорят.
У меня с ним иной разговор.
Я касаюсь руки незнакомца
через тысячи выжженных лет,
и восторгом в груди отдаётся
этот в вечность впечатанный след.
* * *
Оттрепетало солнце в тумане.
Сыро и мрачно надвинулся вечер.
Мне свою грусть и оправдывать нечем:
жизнь – огорчает. Надежда – обманет.
Да и любовь не утешит земная –
дни и часы, отягчённые бытом…
Пусть я чего-то недопонимаю,
пусть что-то важное мною забыто,
знаю: греховны уныния ковы.
Жизнь – обессилит, а вера – поднимет,
как каждый год поднимаются травы
на побуревшей пустой луговине, –
там, за окошками отчего дома,
там, за чертой неутешного взгляда,
жизнь начинается снова, и кроме
этой весны ничего ей не надо.
БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА
Возвратимся к нашим баранам,
тем, что мы распродать не успели.
Снег на пастбища выпал рано.
Родники к зиме обмелели.
А кошары ещё не готовы –
камыша не хватило на крыши.
Что могу я исправить словом,
если ты меня даже не слышишь?
Всё о мудрости Соломона
мне толдычишь каждое утро.
Если б не был Поэтом оный,
никогда б не назвали мудрым.
Этот царь был сыноубийцей,
а ещё – любил Суламифь он.
(Люди об исторических лицах
сочиняют легенды и мифы).
А ещё – в библейском тумане
бил врагов он, от них же бегал.
Но, бренча на своём тимпане,
пел псалмы он во славу Бога.
Жаль, баранов осталось мало.
Жаль, кошары покрыть нам нечем.
Жаль, псалмов этих ты не читала…
Соломон из-за них стал вечен.
ПАСТУШЬЕ НАПУТСТВИЕ
Мне хочется сказать тебе: «Юрма».
Про «яратам» пусть говорят другие.
Ведь на твоих плечах уже сума
И вдаль зовут намеренья благие.
Пока в ущельях вызревает мгла
и камнепадом угрожают горы,
поберегись полночных духов зла.
Уходишь в путь опасный и не скорый.
Так отдохни у моего костра
и с Богом – вслед за белым лунным шаром.
А я отправлюсь с раннего утра
по склонам собирать свою отару.
ВЕЧЕР
Вечер светлый, вечер снежный,
на меня глядит в окно.
Так заботливо и нежно
не смотрел никто давно.
Пусть немного утешенья
в нежной снежности его.
В день минувший, в воскресенье,
не случилось ничего –
Ни такой желанной встречи,
ни зовущего звонка.
Вечер, он и есть лишь вечер…
Но «печаль моя легка»,
как платок, легла на плечи,
их сочувственно обняв, –
– Хорошо, что этот вечер
выпал в жизни у меня.
* * *
У меня в закромах ни зерна, ни монет.
Нет наборной узды для коня твоего.
Только крыльев размах, лунный матовый свет,
плач от прошлой беды – больше нет ничего,
чтоб платить тебе дань лишь за то, что ты есть,
как татарам, насевшим на Русь.
Мне бы только суметь пережить эту весть,
перенесть несусветную грусть.
А когда надо мной рассветается день,
ярым ветром промчится весенний набег,
снова сердце любовью наполнится всклень –
только под останцами растопится снег.
Есть лишь Бог и Любовь. Больше вечного нет,
здесь, где рушится даже гранит.
Так что гордо гарцуй на своём скакуне,
но подальше от наших границ.
ПО МОТИВАМ ЦАО ЧЖИ
Когда-нибудь стряхну самообмана
такие сладкие и тягостные цепи,
и вытрясу, как мусор из кармана,
из сердца мешанину чувств нелепых.
Как шелуху, как пух или полову,
их по полям размечет спорый ветер.
Но тех же чувств значенья основного
он, торопыга, так и не заметит.
И тщетно я пытаюсь обозначить
значенье это разными словами.
Ведь, как любовь не называй иначе,
моя судьба – не понятой быть вами.
..........
Всё в этом мире даже не вторично.
Всё многократно раз повторено,
прокручено размерно и привычно,
как лента довоенного кино.
О БЕЛОЙ ПТИЦЕ
Все размётаны преграды.
Но пришло во сне,
что тебе её не надо –
пусть живёт во мне.
Только я послала птицу
за тобой вдогон.
Поздно вздумал опуститься
этот сон.
Бесприютно птица канет
навсегда,
будто в Мёртвом море камень
без следа.
* * *
Не всё ли равно –
лис или шакал –
срдце моё украл.
Мне без него
стало никак.
Так что зря старался,
чудак.
Солнце моё
в сутеми туч.
Вряд ли пронзит их
радости луч.
А и пробьётся –
нечем принять.
Выкрали сердце.
Осталось спать,
не различая
веков и минут.
Разве что сердце
обратно вернут.
* * *
Мне хорошо в моём безумном мае.
Сывает дождь остатние следы
недавней пыли, что легла, седая,
на кипенные белые сады.
Мне хорошо. Отпущенную душу
не тяготит недавняя печаль,
её, земные правила нарушив,
вслед з тобой я отпустила вдаль.
Она – я знаю – стала белой птицей,
обжившей чужедальнюю лазурь.
И над тобой не уставала виться –
как охранитель от житейских бурь.
Ну а моими днями правил разум,
и оттого легко и хорошо,
что все загадки разгадал он разом,
на всё ответы мудрые нашёл.
И в ожиданье возвращенья птицы
мне так живётся радостно теперь!
Как день один остатний срок промчится
настанет лето – не моих потерь.
* * *
Время года – заячьи ушки –
то ли серые, то ли белые…
Это – время смотреть и слушать,
всё ли в жизни сделать успела я.
Как и все, бросала деревню.
Возвращалась в неё опять.
Как и все, сажала деревья –
лес мой начал листву ронять.
Доля бабья слагалась всяко –
льда хватало в ней и огня.
Как-то враз, как вода, иссякла
вся былая моя родня.
А на месте речного плёса
зелен, в рост пошёл молодняк.
Поприбавилось интереса:
а у них-то сложится как?
Ведь у нас как вышло – так вышло.
Что теперь изменить смогу?
Над отавой заячьи ушки
в резвом промельке на бегу.
КРУГ
Мне горький опыт показал воочью:
семь раз отмерив, начинай от печки.
И небосвод не тяготил мне плечи,
и горизонт был ясен даже ночью,
насквозь понятен вещный мир вокруг,
где всё так соразмерно и полезно.
Давно сама я очертила круг
дорог своих и дел, друзей, подруг…
Но круг судьбы стал обручем железным.
А что за ним? – знать захотелось вдруг.
Мою попытку вырваться из круга
обыденных, скучнейших самых дел,
сочла за цирк любимая подруга,
вчерашний друг с насмешкой поглядел,
мол, и к чему подобная потуга?!
А те, кто любопытство тешат с лоджий,
смертельных трюков страх считают ложным.
Но над ареной я лечу без лонжий.
Сорвусь в опилки, а не на батут.
И снова – круг. Не вырваться из круга.
В ПРЕДОЩУЩЕНИИ СТУЖ
По чернотропью ко мне не найдёшь ты пути.
Скоро мой сад спеленают, взвывая, метели.
Стылое поле могли б мы вдвоём перейти,
как и хотели…
Я на безветрии утреннем жгу костерок.
Пламя трепещет, как ветка сентябрьского клёна.
А моё сердце, пронзённое искрой зелёной,
горечью полнится впрок.
Жёлтые листья впаяны в корочки луж –
будто на землю упали клочки небосвода.
Ясная, тихая установилась погода
в предощущении стуж.
* * *
Какая мягкая зима!
От снежной нежности с ума
сойти – в глуши, в снегах укрыться,
марая строчками страницы.
А снег летит, летит, летит,
засыпал торные пути,
тропинки все и все следы
надежд, сомнений и беды,
в саду оставленные нами.
От прежних встреч и расставаний
нежнейший холодок в гортани.
Словами память не унять,
зачем же на исходе дня,
как льдинки, тоненько звеня,
они слетают с губ горячих?
Зачем они так много значат,
так много значат для меня?
От снежной нежности с ума
схожу над чистою страницей.
Какая мягкая зима
в мой сад решила опуститься!
* * *
В заколдованном лесу
сосны раскачали
между небом и землёй
сто моих печалей.
И доныне на весу
меж стволов червлёных
рой просыпанных углей
в сердце раскалённых,
тех, что грели нас зимой.
Ой, как ветер свищет!
Присыпает он золой
сердца костровище.
Глупо верить, что на днях
сквозь золы коросту,
вдруг, да брызнет молодняк
хвойного проросту.
Но наивности моей
удивляться нечего:
Вспыхнет меж его ветвей
радость. Нынче, к вечеру.

Творческий вечер Лидии Терёхиной "Дань холмам".
Лидия Терёхина. Лествица. Часть I. Ступени перстные. Стихотворения
Лидия Терёхина. Лествица. Часть II. Ступени каменные. Стихотворения
Лидия Терёхина. Лествица. Часть III. Ступени небесные. Стихотворения