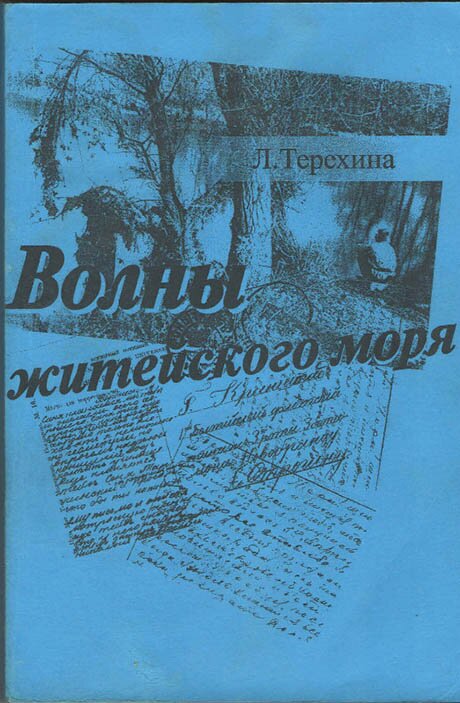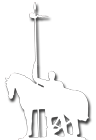Лидия ТЕРЁХИНА
© Л. И. Терёхина, 2005
Часть VIII
ВЫПАЛИ ИМ ДОРОГИ
"К сожалению, нет четвёртого измерения.
Вот и мне не так уж много времени осталось
перед тем, как исчезнуть. Это
закон всего живого. Всего.
И человека, и голубя, и сосны, и паука."
Сергей Образцов. Из письма
Сладкий удушливый дым был везде. Словно старые застиранные простыни висел меж соснами, выбивался серовато-жёлтыми струйками из травы, выпыхивал из-под щелястого барачного пола. Когда запах усиливался, девчата, в полотняных ночных рубашках, вскакивали с железных кроватей, на которых спали попарно. Кровати противно скрежетали и взвизгивали. Пытаясь разглядеть в кромешной подпольной темноте, не пробились ли из земли змейки пламени, девчата на четвереньках ползали по плохо оструганному некрашенному полу, заглядывая в щели.
Горел торф. Подземное пожарище разрасталось. Пути огня были непредсказуемы. Ежедневные многоразовые бомбёжки порождали новые очаги возгорания, и то тут, то там прожорливые оранжевые языки вырывались на поверхность, уничтожая всё живое. Ещё недавно густой и красивый лес топорщился обгорелыми чёрными сучьями. Ночной ветерок раздувал уголья тлеющих стволов, и тогда казалось – тьма колышется и наступает на единственный уцелевший барак тучковских торфоразработок. Раньше в бараке жили мужчины, но их всех мобилизовали, и он стал женским.
Огромная территория, занятая прорытыми в лесу карьерами, бревенчатыми бараками и служебными строениями, залитыми жидким торфом полями, почти опустела. С началом бомбёжек – большинство фашистских самолётов шло на Москву, но некоторые сбрасывали бомбы и на посёлок торфоразработчиков – потихоньку утекло начальство. Погрузили на машины своё барахло и укатили в столицу. Когда мужчины ушли на фронт, громадные торфодобытчики застыли в карьерах: безжизненно обвисли брезентовые рукава-шланги, перекачивавшие жидкое топливо в трубы, по которым текло оно на поля. Некому стало управлять и формовочными машинами. На множестве гектаров в загонах застывал торф.
Девушки перешли на ручной труд – рубили тяпками на кубы влажную массу, цапками отлепляли их от земли, укладывали «ёлочкой» на просушку. Каждый куб переворачивали ещё раз – двенадцать тысяч штук – сменная норма. Досушивали торф в клетках – ажурных этаких крепостцах. Потихоньку начали разбегаться и работницы. Комендант – немолодой полноватый человек – гонялся за беглянками, пытаясь предотвратить растащиловку, ибо прихватывали они с собой всё, что успевали – постельное бельё, посуду…
Но рушились под бомбами, возгорались бараки и корпуса – и у него опускались руки.
Наконец, в его распоряжении оказалось восемь сборных бригад. В каждой по двенадцать девушек, по разным причинам не покинувших разработки. Некоторые были из западных областей, оказавшихся под немцем, другие, как и кущёвская бригада, только что вернулись с рытья окопов из-под Рузы.
Убедившись, что прямой опасности пожара нет, Маша шмыгнула под колючее, с солдатских складов завезённое комендантом по весне одеяло. Повозилась, укладываясь поудобнее. Толстый ватный матрац, простёганный суровыми нитками, создавал неудобство для тела пришитыми для прочности простёжки мохорками. Но усталость брала своё. Вскоре подружка её, приуютившись, начала тихонько посапывать.
К Маше сон не шёл. Видимо, сказывалось переутомление. С утра бригадирка Ариша выдала каждой наплечники и большие лёгкие плетюхи из сухих ивняковых прутьев. До обеда таскали в них торф с поля, Ариша с напарницей складывали его в огромный, наподобие омёта, штабель. После обеда задание сменилось – бригаду бросили на перевозку торфа. Нагружали вагонетку, оснащённую двенадцатью рядами полок – и бегом по узкоколейке до места выгрузки; сбросишь полки с торфом – и бегом по кругу обратно к загону. Так и бегали до вечера, а когда подружки, ополоснувшись в душевой, ушли в барак отдыхать, Маша отправилась на дежурство. Комендант распределил всех по списку – следить, чтобы подземный жар или сброшенная с самолёта зажигалка не спалили остатний барак, при входе в который он самолично отгородил для себя закуток из собранных по разбомбленным строениям цельных досок.
Сменила Машу в начале одиннадцатого бойкая темниковская мордовка Окся.
– Радио сказала, – сообщила она, немцы Рузу взяли… Домой бежать надо.
Маша не ответила ей, но где-то под ложечкой уколола холодная спица страха. Теперь страх этот усиливался из-за нескончаемого гула и лязга бронетехники, ползущей от Москвы на запад, по Волоколамскому шоссе. Непрерывный людской поток тёк в обе стороны днём и ночью. Днём было видно: в сторону фронта движутся организованные, хотя и понурые подразделения, а обратно – разношёрстные группы. Мелькали бинты и повязки с ржаво-красными пятнами крови.
«Лёнька теперь, наверно, тоже на фронте! – испуганно прянуло сердечко. Что если тащится вот так же по пыльной разбитой дороге, раненый?!»
Но раненый Лёнька никак не представлялся Маше. Первый жених в Кущёвке, красивый и ладный, неразлучный на вечёрках со своей гармоникой – малиновы меха, он вроде бы и не ухаживал за ней. Прежде, когда она служила в няньках у Дейсов, а Лёнька учился в Гурино на агрокурсах, они иногда ходили в кино, причём фрау Марта считала Лёньку Машиным двоюродным братом. Потом несколько раз провожал с улицы до дому. Поговорят – о том, что на ум придёт, – и «до завтрева»!
В тот вечер, когда пришёл из Гурино вербовщик с договорами и подъёмными, Лёнька впервые повёл себя странно. Игра ли у глухой тётки Фимы. Вербовщик в сопровождении подростков вошёл в избу, стащил с головы кепку и прошёл вперёд, к столу. Отплясавшие девки расселись по лавкам. Лёнька свернул меха гармоники, склонил голову к верхней планке корпуса, искоса следил, как девки по очереди подходили к столу, расписывались в ведомости, получали заветные тридцать пять рублей и отходили, застенчиво засовывая их за пазуху. Потом он пересел к столу, небрежно спихнув с табуретки одного из малолеток.
Вербовщик вызвал Машу Кузьмину. Она поднялась со стоящей у печки скамьи, оправив платье, чинно двинулась к столу. Вдруг Лёнька выхватил из рук вербовщика договор и в одно мгновенье порвал на четыре части.
– Эй-эй, ты чего делаешь?! Казённую бумагу рвёшь?! – возмутился тот.
Лёнька молча встал и вышел из избы, припечатав дверь.
Маша стояла в растерянности.
– Что я говорила? Не поедет Машка с нами – у ней жених! – развела руками Саша Дягилева – Лёнькина сестра и закадычная Машина подружка.
– Чего-чего? Какой такой жених?! Кто жених? – одновременно удивлённо и возмущённо воскликнула Маша.
– Лёнька и жених! Не видишь, что ли? – отбрила подружка. Все рассмеялись, даже вербовщик.
– Ну, ладно, садись сюда, Кузьмина, – указал он на табуретку, где только что сидел Лёнька. – Раз жених – прощается! А мы сейчас новый бланк заполним…
Пока вербовщик составлял договор, отсчитывал Маше подорожные, пока она выясняла с Сашей отношения по поводу последних подружкиных высказываний, Лёнька прямым ходом направился к Машиному дому.
– Дядь Игнат, Маша дома? – спросил он, ступив через порог и поздоровавшись.
– Где там! На улицу убежала. Ишь вон чего удумала – на торф вербоваться, – ткнул пальцем расстроенный Игнат Григорьевич в уложенный дорожный сундучок.
Лёнька подхватил сундучок, вышел в сени и забросил его на чердак.
Прибежавшая с вечерки Маша первым делом бросилась к сундучку – уложить деньги.
– Тять, а где сундучок?
– Дак ведь Лёнька заходил, на подловку его закинул.
Пришлось Маше среди ночи тащить из курятника лестницу, доставать своё имущество.
Уезжали рано утром. Обидевшийся Лёнька даже провожать не хотел идти, но, когда поезд дёрнулся и начал набирать скорость, вынырнул из-за багажки, запрыгнул на подножку тамбура, где грудились девчата, махая платками остающимся, схватил Машу за запястье.
– Маш, ты мне обязательно напиши письмо, когда приедешь, и адрес. Ткнулся носом куда-то за ухо – вроде как поцеловал – и спрыгнул на отсыпь.
Маша успела написать Лёньке два письма и получить одно, когда началась война…
Поутру вышли с плетюхами через плечо в поле. Ариша бригадирским, не терпящим возражений тоном заявила:
– Всё, девки, надо и нам уходить. Немец уже в Рузе. Сразу всем кучей бежать нельзя – поймают. Если не наши, то немцы. Будем пробираться по четыре человека. Первая четвёрка уходит сейчас же, вторая с обеда, а две – вечером. Имейте в виду, в Москву въезд закрыт, и туда только с центральной пропиской дают билеты. Идите в обход.
Первая четвёрка, составив друг в друга плетюхи, ушла к бараку – забрать вещи. Пожадничав, увязали несколько казённых простыней. Комендант бросился вдогонку, трёх задержал, вернул в барак. Одна так и сгинула в лесу – наверно, провалилась в прогар.
Послеобеденная четвёрка ушла незаметно. Комендант охал и ахал по поводу разгрома, учинённого темниковской бригадой, ушедшей часом раньше. Хотя «громить» было уже нечего – разгромлено было всё. Вечером, увязав узелки с имуществом, сунув за пазуху по пайке хлеба, двинулись в путь остатки кущёвской бригады. Бедный страж порядка пустился вдогон за уходящей к лесу четвёркой девушек. Не столько из уверенности, что они что-то украли, сколько «для порядка» – проверить и не допустить расхищения народного имущества. Девчата бросились врассыпную.
Ночь Маша провела под елью в невыгоревшем лесу, далеко от Тучково. На заре поаукала – тишина. Решила: «Буду пробираться к Москве. Не добьюсь билета – пешком дойду, по рельсам». И чтобы согреться, вприпрыжку побежала в сторону Кубинки. На ней было лишь лёгкое светлое платье и парусиновые туфли. Она вполне сходила за местную с тощеньким своим узелком. Единственно ценным в нём был отрез шевиота, которым премировали её за ударную работу. В Кубинке упросила незнакомую женщину на вокзале взять ей билет до Москвы. «Отец на фронте, мать умерла, а дома братишка и сестрёнка малолетние» – стало рефреном её долгого обратного пути домой. До предела набитый людьми состав полз от платформы к платформе.
В Москве в здание вокзала вход был закрыт, а при выходе с перрона установили заграждения и пропускали приехавших в шесть рядов, проверяя документы. У Маши паспорт почему-то не спросили, и она оказалась в городе. Не успела оглядеться – завыла сирена, оповещая об очередном налёте вражеской авиации. Заметались люди. Перед входом в метро моментально выросла очередь – пропускали сначала граждан с детьми. Маша заметила на тротуаре женщину с тремя малышами. К груди прижимала она одной рукой младенца, притороченного с помощью полушалка, одновременно другой пыталась ухватить ручку небольшого чемоданчика и верёвочную перевязь картонной коробки. За юбку женщины цеплялись совсем крошечная девочка в ситцевом голубеньком платьице и упитанный карапуз лет четырёх в коротких штанишках на одной помочи. Маша молча подхватила картонку, взяла мальчика за руку. Женщина кивнула ей. Они спустились в метро так же молча одними из первых и просидели, задрёмывая время от времени, до шести утра. Потом милиция и работники метрополитена
начали поторапливать и выгонять народ: метро начинало работать.
Маша, поёживаясь от утренней свежести и телесного неуютства – спина и ноги ныли от долгого ночного сидения, отправилась на Казанский вокзал. Билетов на дальние расстояния не давали. После утомительного стояния в очереди удалось купить билет в общий вагон до Луховиц. Доехала туда, приткнувшись на краешке жёсткой полки, зато быстро.
Под ту же басню, что едет спасать осиротевших брата и сестру, уговорила луховицкого кассира продать ей хоть плацкартный до Рязани на литерный поезд, который уже стоял у первой платформы.
– Не посадят тебя, девушка! – убеждал кассир.
– Вы только билет дайте, я сяду, – умоляла Маша.
Дал.
Она выскочила из зала ожидания и побежала вдоль литера. Все двери были закрыты. В конце перрона блестели фляги. Фляг было много, и несколько рабочих по очереди затаскивали их в последний вагон. Дверь второго тамбура тоже была открыта, и возле неё стояли, проверяя накладные, начальник поезда, начальник станции и проводница.
Маша с разбегу, с маху бросилась в тамбур. Полная пожилая проводница, бранясь, попыталась стащить её за плечи. Маша отбивалась. Проводница залезла на площадку; начала выталкивать вон «наглую девчонку», но поезду дали зелёный, и он, дёрнувшись, начал набирать скорость.
– Нельзя, нельзя, на ходу не выталкивай! – крикнул с перрона начальник станции и отплыл назад.
– Ну, что с тобой делать? Местов нет! – сердилась проводница. – На следующей остановке ссажу.
– У меня билет до Рязани, вот, – совала ей под нос свою плацкарту Маша. – Мне домой надо, у меня там братишка и сестрёнка… Я стоя доеду, тут, в тамбуре.
– Всем куда-то надо, – сбавила тон хозяйка вагона.
Минут через двадцать она высунулась в тамбур и приказала:
– Иди сюда!
Маша доехала до Рязани в служебном купе, и подобревшая проводница, её тёзка, напоила случившуюся попутчицу чаем, дала большой бурый огурец и кусок хлеба. У Маши ни крошки во рту не было третий день.
Рязань встретила прибывших людским потопом. Глазом не окинешь – колыхалась человеческая масса: раненые с госпитальных составов, эвакуированные и беженцы устремлялись вглубь России и только военные соединения – на Москву.
На билет до Пензы Маше не хватало двенадцати рублей. Покрутившись в людской круговерти, встретила она темниковскую бригаду, и разбитная Окся купила у неё за двенадцать рублей шевиотовый отрез, единственное Машино богатство.
Зато теперь у неё был билет, и не важно, что на еду не имелось ни маковой росинки. Она потерпит. Восьмичасовой путь от Рязани вылился в трое суток, а помереть от голода не дала Маше попутчица – майор медицинской службы, которая везла для лётчиков военного аэродрома, базировавшегося под Пензой, несколько больших кожаных чемоданов с имуществом. Сто последних километров до Гурино Маша Кузьмина прошла пешком. С пустыми руками, босиком, росным сентябрьским утром явилась она в родимой Кущёвке. Стараясь не загреметь щеколдой, открыла дверь в избу.
Игнат Григорьевич стоял в переднем углу под образами и на школьной географической карте отмечал населённые пункты, занятые врагом: Можайск, Руза, Тучково…
Гуринский район на своей территории разместил бы иное государство европейское, скажем, Нидерланды – такой большой. Почти по середине его с юга на север проходит водораздел. Земли, лежащие по правую руку, омываются притоками Пелетьмы. Собирая родниковые струи по буреломным оврагам Ежовских лесов, вклинившихся в гуринские владения из соседней Мордовии, неширокая говорливая речка эта бежит на юг, в Суру. А в степных балочках по левую руку набирает силу спокойная омутная Ухма. Мягко переливаясь, заворачивает она с севера на запад, к Мокше.
Растянувшуюся вдоль речного берега деревню Пелетьминку теснит к самой воде один из мощных лесных языков, через который ведёт тракт на Ленино. До своего райцентра дальше, да и дорога хуже. Поэтому с хозяйственными делами тяготеют искони пелетьминцы к соседям. В Гурино выбираются лишь по административной или больничной нужде. Среднее образование окончившие пелетьминскую семилетку тоже получают в Ленино.
А Кущёвка, где явилась на свет Божий Вера Андреевна Кузьмина, находилась в зоне прямого влияния райцентра. И не удивительно, что жители Пелетьминки порой ни о деревне этой, а уж тем более о Вере Кузьминой слыхом не слыхивали. К тому же Кущёвки той давно уже нет на карте Гуринского района, как нет и многих других населённых пунктов. С 1954 по 1994-й год – за сорок лет сознательной жизни поколения Веры Андреевны – из шестидесяти шести сёл, деревень и посёлков на её родине стёрлось с лица земли две трети. В последнее десятилетие в разрухе и распаде оказалось ещё с десяток. И теперь на пыльных архивных полках только можно будет отыскать названия Красная Калиновка, Малиновка, Приволье, Родниковка, Литовка, Медведовка, Лоховщино, Грачёвка, Надеждинка, Любятино, Маровка…
А на земном просторе укажут болящему сердцу места прежнего людского счастливого-несчастливого обитания седые мары, приглохшие родники, одичавшие садовые кущи.
Река времени поглощает всё – людей, деревья, города, государства. Затухают даже солнца. Неоглядна и неохватна умом тёмная прорва времён позади нас и непредставима – впереди. Даже с микроскопической пылинкой несравнимо наше историческое время перед лицом жизни вечной.
Вот не стало и никогда не будет впредь милой сердцу Веры Андреевны Кущёвки. Там остались лишь родительские могилы, но время сотрёт и их след. Ведь превратилось же в ровный голый бугор старое кладбище, закрытое в начале прошлого, двадцатого века по недостатку места. Вера ещё знает, что на том бугре покоятся её прапращуры – десять, а может и больше колен до дедов, обиходившие кущёвские поля. Но не ведает, что было допрежь. А уже если не дети её, то внуки не будут и знать этого места. Не такая ли судьба уготована всем нам?!
Андрей Ильич и Мария Игнатьевна – родители Веры – оба от рождения были Кузьмины, как и половина жителей деревни.
Некогда от одного корня поднявшееся родовое дерево далеко разбросало плоды свои.
Генеалогические изыскания Веры Андреевны нашли связь между отцом и матерью в седьмом колене. Естественно, забыта она была живой человеческой памятью.
Родители поженились, вернувшись с Великой войны. И хотя в детстве целый год бегали в единственную на триста шестьдесят кущёвских дворов школу, Андрюшка совсем не запомнил малявку-первоклашку. А Маша смутно вспоминала мальчишку из третьего класса с соломенными, пятернёй приглаженными волосами, в лаптях, с залатанной – пошитой, скорее всего, из сношенных портков, – сумкой на длинной лямке через плечо.
В конце двадцатых, и даже в начале тридцатых лапти в России спасали многих. Маша пошла в школу в пять лет. Увязалась за старшим братом. Поначалу учитель, увидев забавную курносую мордашку, не выпроводил её из класса только потому, что решил: «Самой надоест». Маше не надоело. Больше того, она буквально на лету схватывала слова учителя. Раньше и лучше других научилась читать. И учитель пошёл к её отцу, печнику Игнату Григорьевичу Кузьмину – дескать, девочка у вас способная, записывайте в школу. У Кузьминых – семеро по лавкам. Маша – младшая, отцова любимица.
– Ладно, пусть ходит! – согласился он.
Встала проблема с обувкой. С ранней весны до глубокой осени дети бегали босиком. В распутицу из дому на улицу носа не высовывали. А зимой – валенки, порой одни на троих.
Игнат Григорьев сходил в рощу, надрал лыка, вымочил, высушил и взялся за кочедык. Не лапотки сплёл – игрушки. Сам залюбовался. Усадил Машу на скамью, портяночки намотал, лапоточки повязал: «Гляди, и похолодает скоро. Ноги застудить можно. А теперича в самый раз, и ногам тепло будет. Иди, учись!
К обеду пришла Маша из школы босиком. Мать увидела – ахнула:
– Отец, гляди, девку-то разули!
– Дочка, где обувка? – всполошился тот.
– В речке ваши лапти плавают, – заявило дитятко.
– Как в речке? – родители хором.
– А так. Я их сняла, верёвками обмотала вместе с портянками и в Ухму запулила.
Мать поругалась на самовольницу. Отец только головой покачал. Наутро отправился в Гурино на базар и купил баловнице сандалии.
Маша росточка маленького была – как-никак, половинка. Двойняшкой родилась, но сестричку её на третьем году жизни холера прибрала. В школе Машу так и прозвали малявкой. Грамоте учиться заставляли ребятишек разных возрастов – от семи до пятнадцати, и учились едва от мамкиной юбки оторвавшиеся детишки и почти уже женихи.
Девочек годов с двенадцати в школу не отпускали – дома помогай да за прялкой сиди. Авось, кто замуж выглядит… Маше по малолетству ничто учиться не мешало, а природная её сметливость и живой ум вскоре вывели в самолучшие ученики. К концу третьего класса строгий, худой как жердь учитель, посещавший крестьянские дома на предмет выяснения условий жизни своих подопечных, не раз убеждал Игната Григорьевича в необходимости учить Машу дальше. Но тот только руки разводил:
– Мил человек, нету ни средствов таких, ни иных возможностей.
И Машу по окончании трёхлетней кущёвской школы определили в няньки к немцам. Немцы эти приехали из-под Саратова-города строить совхоз. В пяти верстах от Кущёвки и в трёх от райцентра на голом месте ставили они бараки, скотные дворы, конторское помещение. Работали и на полях.
В семье Дейсов приставили Машу следить за трёхлетней Фридой и полуторагодовалой Ядвигой. Старший сын Дейсов, семилетний Вилька, жил самостоятельной жизнью – с утра до темна носился по улице с оравой таких же сорванцов, рыбачил. Добытчик был Вилька – то орехов-лещин притащит, то гороху настрекает полную пазуху на совхозном поле. За день всего-то раз-другой домой забежит – схватит горбушку хлеба, молока кружку залпом выпьет – и снова за дверь.
Ребятни в совхозе было много. Кроме немцев на постройке работали украинцы и местные. Вновь возведённые секции заселяли в основном молодые семьи из окрестных сёл, отделявшиеся от стариков. Совхоз был образцовый. Любовь немцев к порядку заражала остальных, и возле построек не валялись как попало сваленные брёвна, доски, дрова, стожки сена-соломы были аккуратно оправлены и причёсаны. К работе совхозные относились ответственно и, возможно, поэтому жили в относительном достатке.
От совхоза няньке положена была натуроплата – две меры зерна за месяц. Кормилась она за хозяйским столом.
Через год Маша без запинки трещала по-немецки.
– Es ist merkwurdig, das diese kleine russische Bauerin so gliessend deutsch sprechen lernte1 , – удивлённо говорила мужу фрау Марта. – Das war wahrscheinlich in ihrem Blut.
Но Маше ни до кровей, ни до корней не было никакого дела.
Пока она вытирала носы немчурятам, шмыгая своим, Андрюшка Кузьмин трясся в “телятнике” с большой своей семьёй – ехали на Кубань, обживать вымороченные запустевшие земли.
Житница встретила новосёлов неласково – повальной холерой. За полгода упрятав в щирую украинскую землю отца, мать, вдовую сестру с двумя её малышами и собственного младшенького сыночка, Илья Трофимович с женой и Андрюшкой бежал от беды в Нижний Новгород, недавно переименованный в Горький. Ехали не на пустое место. В Нижнем осели, спасаясь от раскулачивания, несколько кущёвских семей. Строили автомобильный завод. Стройка нуждалась в умелых рабочих руках, нужны они были и в цеха.
Кущёвские в городе держались друг друга – не повыветрились ещё навыки общинной жизни. Вместе горевали, водили праздничные компании. Помогли устроиться и Кузьминым. Илью Трофимовича взяли подсобным в литейку, Серафиму Кузьминичну, Андрюшкину мать, уборщицей в металлообрабатывающий цех. Приходилось ей ежедневно выгребать от станков горы красивой вьющейся металлической стружки. Чуть зазеваешься на её переливы – перевязывай руки. Остра и колюча стружка.
В большом фанерном ящике, укреплённом на неповоротливой четырёхколёсной раме, вывозила её Серафима Кузьминична на свалку металлоотходов в дальний угол заводской территории.
Кузьминым выделили комнату в бараке – в получасе ходьбы от завода, если идти прямиком, через городское кладбище.
Начала налаживаться городская жизнь. В двадцать девятом приросло семейство дочкой, а ещё через два года – сыном.
Но прохватило сквозняком разгорячённого у печи Илью Трофимовича, и свалила крепкого мужика скоротечная чахотка. Ходила теперь на завод Серафима мимо мужниной могилы. Руки опускались от бессилия: как троих поднять на уборщицкие гроши?
Четырнадцатилетний Андрей, видя маету матери, проявил характер.
– В завод пойду. Буду работать! – и ушёл из школы. В отделе кадров подростка определили в подмастерья к заводскому художнику.
Новое дело сразу понравилось Андрею, особенно – раскрашивать яркими эмалями плакаты. Может, так и стал бы художником, но случай судил по-иному.
Секретарь парткома надумал повесить первомайский транспарант на крановую балку. Цех высоченный. И Андрея как молодого и ловкого послали наверх – прикрепить раму, обтянутую кумачом, проволокой к каркасу балки.
Серафима Кузьминична вкатила свою тележку в цех, как раз когда Андрей, снизу похожий на воробышка, карабкался под самой крышей с зажатыми в зубах концами проволоки. Она молча схватилась за сердце и сползла по станине на чугунный пол.
Андрей прикрутил транспарант и благополучно спустился вниз, отпустил сердечный спазм перепуганную мать, но карьера заводского художника была закончена. По слёзной просьбе матери Андрея поставили к станку – учеником слесаря. Потом освоил он специальность токаря-расточника, а незадолго до Великой войны получил шофёрские права. Во всех его начинаниях чувствовалась крестьянская основательность.
Пороки, свойственные большой части молодёжи рабочих окраин, не затронули его. Из-за той же крестьянской закваски или природной застенчивости. С завода в сорок первом, когда немцы начали бомбить цеха, Андрей Кузьмин ушёл на фронт.
Война для него началась с того, что попал в окружение. Бросили необстрелянных новобранцев на прорыв. Немецкую линию обороны на назначенном участке прорвать удалось, но оказалась наполовину повыбитая воинская часть в клещах, а потому как немцы форсировали наступление – и вовсе у них в тылу. Две недели по ночам шли за кононадой – на восток. Поскольку не велось на участке позиционных боёв и части, как противника, так и наши, находились в постоянной подвижке, вышли к своим.
Пешим порядком по зимнему бездорожью направили окруженцев в сотировочный лагерь под Казанью. Оттуда после переформировки с сибиряками попал на Орловско-Курскую дугу. Под Белгородом навылет грудь прошила пуля. Закончилась для рядового Кузьмина передовая. Пошли госпиталя…
В сорок третьем вернулся в Кущёвку, куда сразу же после его мобилизации, ещё в сорок первом, пешком пришла из Горького Серафима Кузьминична. Семьсот с лишним километров, с малыми детьми, таща на горбу все свои пожитки и главное богатство – ручную швейную машинку «Зингер». Поскольку своего дома в деревне уже не было, поселились у дальнего родственника – одинокого старика.
Андрей первую весну после госпиталя еле ноги таскал. И чтобы не помереть с голоду, едва начала протаивать земля, ходил раненый герой по усадам – искал невыбранную по осени картошку. Промёрзшие, с грецкий орех клубешки промывали, тёрли на тёрке, – добывали серый, гнилью шибающий крахмал. Добавляли в него мезгу, лебеду, иную какую траву, при наличии – горсть муки и пекли драники. Тем и спасались…
В няньках у Дейсов прожила Маша три года. Затем ушла в колхоз. Работала по летам в поле. Её за сообразительность бригадиркой поставили. Неотступно следовала она за учётчиком, следя, чтобы не занизил объёма выполненных работ. Пересчитывала за ним обмотыженные борозды, хваталась за сажень и, сама с неё ростом, подпрыгивая, вымеряла выработанные сотки.
Так пролетели отроческие годы. Работный сезон в поле, в непогодь за прялкой. Зимой в деревне работа стоит. Только с надворным хозяйством управляйся, да инвентарь готовь к лету.
У деревенской молодёжи труд искони перемежался с игрищами. Когда никто не пускал на посиделки, сходились к единственному в Кущёвке кирпичному строению – с дореволюционных времён уцелевшей людской. Уцелела она, когда палили и рушили барский дом потому, что стояла на отшибе. А не растащили её по кирпичику на собственные хозяйские нужды мужики, как растащили конюшни и контору, тоже по веской причине. Советская власть определила здание под общественный склад.
Молодёжь облюбовала широкую полянку перед «каменной» для своих вечерних забав не только по дедовской памяти – изначально собиралось на ней крестьянское общество для решения важных, касающихся всех жителей вопросов, но и потому, что рассыпан был у её стены большой волок строевого лесу (ему так и не нашли применения). Удобнее места для посиделок и придумать было нельзя. Светлые, смолистые некогда брёвна, пролежав под открытым небом добрых полтора десятка лет, поседели и затрухлявели с концов, обросли полынком. Зато траву перед ними вытаптывали напрочь, а снежный наст утрамбовывали в лёд неугомонными плясками под гармонь Лёньки Дягилева. Вообще-то гармонистов в деревне было семь – три на длинной Кузьминской улице, три – за Ухмой и один на окраинной Нагишовке. В праздничные дни от удалой их игры и девичьих песен во всей округе стон стоял.
Потом покатилось…
Сначала тех, кто побогаче – раскулачили, на север выслали. Потом тех, кто в пятистенке живёт или крышу дранкой покрыл, в двадцать четыре часа да на четыре стороны. Следом бежали те, кто в колхоз не хотел записываться. Остальных из неохочих дожали – отнимали всё до последнего рушника. Опять же многие уехали от греха – в чужие края или на новостройки. Перед войной из трёхсот шестидесяти в деревне едва сотня хозяйств осталась. Из них в колхоз лишь три хозяйства не вошли, в том числе Игната Григорьевича Кузьмина. Работал он, пока мог, в Гурино пожарником на элеваторе. Другие мужики, в колхоз не записавшиеся, помоложе были. Они на железную дорогу подались, в путевые рабочие. По родительским стопам и дети их шли.
В тридцать седьмом Машу на элеватор приняли визировщицей, а через два года перевели в охрану. Работа в три смены. Особенно тяжёлая – третья с двенадцати ночи до семи утра. К тому же на дорогу по часу тратили – в один конец. Ходили вдвоём с закадычной подружкой Сашей Дягилевой. По пути случалось всякое.
Как-то, метельной февральской ночью возвращались со второй смены – в первом часу ночи. Уже к Кущёвке подходили. Спустились в ложбинку. Поднимешься на взгорок – и вот она, деревня.
Маша глаза подняла: сквозь космы метели в порыве быстро бегущего на Гурино тёмного неба показалась плоская бесцветная луна и на самом гребне подъёма высветила чёрную звериную фигуру. Волк стоял, вытянув вверх и чуть развернув в сторону обнажившейся луны голову, – красивый, сильный.
Маша вцепилась в рукав Сашиной жакетки. У той при виде волка вырвалось сдавленное «ы-ы-ы…» Какое-то время они так и стояли – девушки внизу, волк наверху. Зверь как-будто и не замечал их.
Маша вспомнила, как отец в детстве учил её не бегать от собак, обитавших чуть не в каждом кущёвском дворе. Но то – собаки, дворовые шавки, а тут – хищник.
Разговоры о расплодившихся волках, осмелевших до того, что чуть ли не средь бела дня забегали в деревни, шли давно. Говорили, что звери, как беженцы, уходили от войны и теперь заполнили спокойные мордовские леса и глубокие балки окрест.
В Кущёвке на разные голоса выли собаки. Маша, затаив дыхание, начала медленно подниматься по дороге, не отпуская рукава подруги. Та невольно потянулась за ней.
– Отец говорил, что надо спокойно, не дёргаясь и не показывая страха, идти прямо на собаку и говорить ей что-нибудь уверенным, доброжелательным тоном. Ты только не дёргайся, Саш. Надо идти спокойно и уверенно. Волк, мы тебя не тронем. Ты уходи, ради бога. Нам надо домой, – Маша изо всех сил старалась, чтобы голос её не дрогнул.
Волк по-прежнему, не шелохнувшись, стоял вверху и даже не повернул головы.
Девушки двигались по накатанной санями дороге мелким скользящим шагом. Маша продолжала что-то говорить, почти уже не сображая, что. Когда они были шагах в двадцати, волк, подобно детскому картонному коню, развернулся всем корпусом, сделал три громадных прыжка в сторону деревни и исчез.
Идти за ним было страшно, стоять – ещё страшнее. Луны уже не было видно, и только охвостья метели хлестали по лицу, одежде.
– Только бы до домов дойти. Там к кому хошь постучаться – можно, зашептала Саша.
– Ага, пошли.
Собачий лай в Кущёвке превратился в истерический визг.
Девушки не пошли улицей. Решили пробираться по узенькой тропинке, протоптанной от дверей до дверей меж соседскими избами вдоль огородов и сарайчиков. И когда они загрохали кулаками и ногами в хлипкую дверь кузьминских сеней, а встревоженный ночной кутерьмой, поджидавший дочь Игнат Григорьевич вышел со светцом открывать им, смертоносными стрелами пролетели по улице семь волчьих теней.
В ту ночь разорвали волки в Кущёвке трёх собачонок, раскрыли на Нагишовке сарай и зарезали трёх овец. Унесли только одну. Был ли встреченный девушками зверь сторожевым, или Господь отвёл беду, но – пронесло.
Приходилось подружкам и от милиции бегать, прятаться по балкам. Семьи большие, время голодное – насыпешь в карман зерна, а тут облава. Попадаться нельзя, за самую малость упекут лет на десять, и счастливцем мог считать себя тот, кто за колоски трудовой повинностью отделывался.
И всё-таки наибольшую опасность представляла сама работа. От голодных хлеб охранять – всегда под смертью ходить. Ухитрялись закон обходить, не все его буковки выполнять дотошно. Многодетных баб, скажем, для близиру обыскивали. Если карман и насыплют – пропускали. Иногда о готовящейся облаве женщин предупреждали, чтоб не брали в этот день ни зёрнышка. Иногда работника с поклажей отловят, отведут на ссыпной пункт, заставят ремень распустить, зерно из рубахи вытряхнуть. Больших же утечек хлеба не допускали, особенно по ночам строго охраняли склады от сторонних злоумышленников.
Происходили и забавные случаи.
По разнарядке прислали в Гуринское заготзерно нового директора. Строгий оказался начальник, дисциплину требовал. В марте дело было. Сугробы сверху оттаяли под солнцем, ледяной корочкой покрылись. По ночам мороз крепко держался – по пословице «марток – надевай трое порток». Маша и Саша на третью смену заступили. Саша поначалу у ворот в будке стала, а Маша – обходным.
Ну а новый директор решил проверить, надёжно ли стрелки народный хлеб стерегут. Шубняк наизнанку вывернул, шапку на лоб нахлобучил – и к забору. Маша как раз пакгауз обходила, проверила надёжно ли двери заперты и остановилась за подветренным углом. Слышит – снег у кого-то под ногами хрустит. Насторожилась.Видит, незнакомый мужчина к забору подошёл и на него карабкаться начал.
Маша винтовку на него навела:
– Стой, куда идёшь?!
А сама думает: «Может, вор, а может, и вредитель лезет».
Директор молчит. С забора на территорию заготзерно спрыгнул. В сугробе завяз, копошится.
Маша затвором щёлкнула:
– Стрелять буду! Гляди, первой пулей тебя смажу, а вторую в небо пущу. Пусть потом разбираются, как дело было. Вылезай и руки вверх!
Незнакомец ушанку снял:
– Я, – говорит, – директор Некрасов.
Маша начальство в лицо признала.
– Ой, товарищ директор, я думала – вор лезет!
– Правильно думала! – ответил тот. Из сугроба выбрался и пошёл к воротам.
Утром, к концу смены, пришла в дежурку директорская жена. Принесла стакан мёду и маленькие золотые серёжки.
– Это, – говорит, – Дмитрий Иванович приказал Маше Кузьминой передать в благодарность за хорошую службу. Кто Маша-то будет?
Подружки мёд на пару съели. Серёжки Маша старшей сестре отдала – та замуж собиралась. А сама и за благодарность рада стараться.
Тем более, хотя по военному времени законы ещё построжали, охотников поживиться государственным хлебом не убавилось. А он ведь ещё и для фронта стал нужен.
Апрель сорок второго выдался ветреный, слякотный, промозглый.
Машу Кузьмину и Сашу Дягилеву назначил Некрасов в сопровождение хлебного эшелона для блокадного Ленинграда – маршрутом до Рыбинска. Нагрузили состав пшеницей и рожью. Вагоны открытые, даже без пологов. Начальство решило: за неделю, что в пути будут, не промокнет зерно, и уж тем более не сгниёт.
Матери подружек об этом назначении узнали – к директору со слезами:
– Куда вы, Дмитрий Иваныч, глупых девчонок посылаете? На смерть ведь!
А Некрасов желваки перекатывает:
– Поймите, бабоньки, не пошлю же я матерей от малых детишек! Нет у меня мужиков, не-ту! А девушки они боевые. Будем надеяться, что с заданием справятся успешно…
Тут плачь-не плачь, выхода и впрямь нет другого. Из одной только Кущёвки, из ста-то дворов, двести десять мужиков и парней на войну забрали, и так почитай в каждом селе.
Не могли предположить-предугадать в то время бабы, что не вернутся к родным очагам сто семьдесят восемь из ушедших двухсот десяти. Полягут по долам и весям от Москвы до Берлина. А из вернувшихся будет половина – стреляных, другая половина – пуганых.
Короче, снарядили подружек. Дали на неделю хлеба, винтовку и к ней три патрона на случай грабителей. На каждом вагоне белой краской «Пропустить вне очереди» написали. И хотя один вагон шёл закрытый, можно было в нём от ветра укрыться, директор перед дорогой напутствовал: «Смотрите в оба, девчонки. Лучше, если похолодает, в зерно заройтесь, но без присмотра эшелон не оставляйте». С тем и поехали.
От Гурино до Красного Узла паровоз тянул ходко. Остановки делались кратковременные. Подруги только успевали сменить друг друга на тормозной площадке. Пока одна ёжилась на пронизывающем ветру, другая дремала, по горло закопавшись в зерно. В Красном Узле застряли на трое суток. Маша по пятам ходила за начальником станции, требуя отправки. Но как она ни убеждала его, что груз первоочередной, он только отмахивался:
– Погоди, девонька, отправлю и вас. У меня раненые, техника с фронта разбитая, новая сила и орудия на фронт – это составы стратегические. Я им зелёный свет должен обеспечивать.
На третьи сутки начал моросить противный мелкий дождик, но в ночь подморозило. Зерно поверху схватилось хрусткой ломкой плёнкой. Поутру подогнали паровоз, и эшелон со скрипом дотащился до Арзамаса, где стали на восемь суток. Командировка закончилась, еда тоже, а они ещё в начале пути. Когда с голоду сводило желудок, жевали пшеницу, оттаивая и отогревая зёрна в ладонях. В верхнем подмоченном дождём слое она была помягче.
На вагоны по скобам лезли бойцы из останавливавшихся на соседних путях эшелонов, распознав, что за груз стоит на запасном. Девчата шумели на них, грозились, что будут стрелять, но солдаты только скалили зубы. Хватали горстями зерно и совали в рот, в карманы, насыпали в пилотки. Все голодные! Вечером на восьмые сутки «кукушка» подтолкнула к хлебному составу сцепку. Маша на правах старшей отправила подругу разузнать, что за вагоны. Выяснилось, что теплушку и две платформы с разбитыми танками направляют в Горький на автозавод – в ремонт. В ночь состав отправили. Три дня кормили танкисты девушек из своего котла, но в Лукоянове – переформировка: технику отправили на Горький, хлеб – на Москву.
Подъезжали к Орехово-Зуево, когда немцы начали бомбить станцию. Состав пустили сходу, и надо же, проскочили между двумя заходами вражеской авиации. Остановились на каком-то разъезде. Рядом – вырвавшийся из-под бомбёжки воинский эшелон. Перегружают раненых на платформу. Один убит. Саша попросила лейтенанта, командовавшего выгрузкой, отдать им котелок и ложку умершего. На разожжённой солдатами рядом с путями чугунке впервые за много дней сварили из пшеницы кашу.
Здесь, на разъезде с позабывшимся вскоре названием, перецепили от идущего на фронт эшелона к составу, сопровождаемому девушками, два закрытых товарных вагона. Их охранял пожилой, хмурый с виду милиционер. Кто-то из бойцов, глядя, как жадно хватают оголодавшие девчонки горячую кашу, с осуждением сказал:
– Вот, девчонки голодные, а этот – кивнул он в сторону милиционера – для зеков крупу везёт. – И помолчав, добавил: – аж в Котлас.
Сначала с полустанка отправили военных. Саша, обходя своё хозяйство, подошла к милиционеру. Он сидел, свесив ноги, на тормозной площадке и курил.
– Дяденька, мы с подружкой скоро две недели ничего, кроме пшеницы не ели. Ребята с эшелона сказали, что у вас крупа…
Тяжело и долго смотрел милиционер на щуплую девчурку, стоящую перед ним, потом спрыгнул на землю:
– Пошли!
Они пошли вдоль хлебного состава. Дважды милиционер карабкался по скобам наверх, изучал и даже нюхал зерно.
– Где подружка?
– Там, – Саша ткнула пальцем наверх и крикнула: «Маш, ты где?»
Над краем соседнего вагона показалась голова и облепленные хлебной шелухой плечи.
– Значит, так. Куда следуем? – строго спросил милиционер.
– В Рыбинск. Мы хлеб везём для блокадного Ленинграда, – отрапортовала сверху Маша.
– Так, так… Давайте чего-нибудь, куда вам крупы насыпать. Чать, не оголодают мои уголовнички, если с вами поделятся, – милиционер повернулся и быстро пошёл к своим вагонам.
– Машка, давай свою полушалку. Скорей! – заторопила Саша. Поймав сброшенный сверху платок, чуть не бегом пустилась она вдогонку за спасителем.
Он сбил пломбу с вагона, насыпал в платок с полведра гречневой сечки. Сваренную из неё кашу можно было не только сравнивать с шоколадом, но и с любыми самыми изысканными известными и неизвестными подругам деликатесами. Её хватило на оставшийся до Рыбинска путь. Более того, гречневая каша явила собой вершину пиршества на середине обратного пути, в достославном городе Муроме. Но об этом – разговор пойдёт чуть позже.
* * *
Вера родилась после Великой войны в местности, не знавшей нашествий и баталий со времён татаро-монгольского ига. О событиях военных лет довелось ей лишь читать в книжках, слышать от уцелевших и выживших в послевоенной разрухе фронтовиков и свидетелей, смотреть кинокартины.
Но иногда, даже довольно часто, в снах своих она оказывалась в непережитых ею наяву обстоятельствах, испытывала несвойственные мирной обыденности чувства. Такие сны повторялись. Менялись лишь детали: пейзажи, обстановка, но собственные действия и заполняющих такие сны людей – её друзей, близких, солдат в полинялых, советского образца гимнастёрках.
Они вышли в город. В Муроме было тихо, и если бы не патрули, можно было позабыть о войне. Однако явление двух девиц в гражданской одежде и с винтовкой не могло не возбуждать подозрений у стражей порядка. Девушек забирали едва ли не на каждом углу и водили в комендатуру. Проверив документы, отпускали – до следующего патруля.
Обыватели тоже с подозрением смотрели на странных вооружённых девчонок, спрашивавших у встречных, как найти им какую-то «тётку Дуню на пристани».
Проблуждали Маша и Саша по Мурому весь день и уже в сумерках вышли к реке. Кругом песок горами лежит. Дамба. Вдоль берега натянута колючая проволока в пять рядов. Шагов через сто таблички висят, на жести писанные: «Запретная зона».
Саша говорит:
– Давай ружьё в песок зароем. Это из-за него патрули нам проходу не дают. Ещё и совсем заберут!
А Маша:
– Нет. Я за винтовку в заготзерно расписывалась. Её надо обратно сдать.
Саша за ствол уцепилась, винтовку вырывает, Маша не даёт, за ремень к себе тянет. Дёргают оружие друг у друга, пререкаются.
Тут из-за дамбы прохожий появился – в кожаном пальто, в сапогах хромовых, кепка тоже кожаная, вроде военной, только без звёздочки.
– Что за драка? – спрашивает. – Откуда оружие?
Девушки смутились, что их, как маленьких, чуть ли не за дракой взрослый мужчина застал. Глаза в песок.
– Наша винтовка, – отвечают хором.
– У нас разрешение есть, – уточнила Маша и мужчине командировочное предписание показала. – Вот, тут указано, – ткнула пальцем.
– Ясно. А что тут делаете?
– Мы тётку Дуню ищем. Она где-то у пристани живёт. Цельный день ходили, всех спрашивали – никто не знает.
Мужчина улыбнулся:
– Повезло вам, барышни. Я знаю, где ваша тётка Дуня живёт. Как вдоль запретной зоны пройдёте, – показал рукой, – там ступеньки увидите. Деревянные. Вниз по ним спуститесь и сразу направо идите по настилу вдоль дамбы. Там один только дом и есть. И в нём свою тётку Дуню найдёте.
Подружки даже «спасибо» сказать забыли – бросились по указанному пути. И уже минут через десять, причитая и охая, тётка Дуня обнимала свою единокровную племянницу и её подружку – Игната Кузьмина, одногодка, дочь.
Потом она топила печку – варила из оставшейся сечки, привезённой девками, кашу и грела в большом чёрном чугуне воду – устроила им помывку в ржавом железном корыте.
А когда они, измученные, но чистые и сытые, уснули на широкой горячей печи, тётя Дуня забросила за заслон прожарить их нашпигованную вшами одежонку.
По возвращении подругам дали на восстановление сил, а попросту отоспаться, неделю, и снова на пост.
А шестнадцатого ноября принесли повестки. Из Кущёвки в райвоенкомат отправились вчетвером. Предстали перед отборочной комиссией – военком, врач и пожилой капитан, прикомандированный на мобилизацию из Пензы, разбивали пришедших на две группы.
«Сортировка» прошла быстро: сколько классов закончила, чем болела, нет ли жалоб? Одну из подружек забраковали по полной неграмотности, другую, дочь бригадира МТФ, «умный человек подучил изображать дурочку». На вопрос «Сколько классов?» она отвечала: «Одну». – «Чего одну?» – «Половину». Этой велели явиться через неделю на рытьё окопов.
Отобрали двенадцать человек из Гуринского района и отправили поездом в Пензу. На сборном пункте в Весёловке собралось четыреста девушек – цвет области. Разместили по квартирам. Приказали утром к восьми быть на площади у Введенской церкви. Оттуда повели строем к облвоенкомату.
– Запевай!
«Избы снегом заносило, шёл морозец молодой», – взвился в пухлое бледное небо звонкий девичий хор. Пели нестройно, но азартно.
Областная комиссия из четырёхсот отобрала сорок человек. Прямо от военкомата отправили их своим ходом на вокзал.
– Едем в Борисоглебскую учебную роту, – оповестил сопроваждавший девичью команду старшина.
В Борисоглебске первым делом направили в баню. Выдали новенькое обмундирование. Желающие окоротили волосы. Повального приказа стричься ещё не было. Позже, уже в пулемётной школе, обнаружив непорядок по форме 18, приказали постричься всем.
После помывки в вольном строю пошли к рынку. Старшина разрешил гражданские вещи продать, дал на это тридцать минут. Торговки налетели как вороньё. Девчата не рядились. Они теперь люди казённые – одёжка прежняя им ни к чему. Отдавали всё по мизерной цене. На вырученные деньги тут же, на базаре, купили семячек, – навязали узелки, насыпали в карманы шинелей. Когда собрались у выхода и построились, старшина скомандовал:
– По курсу «ноль» шагом марш! – протопали к дощатому базарному туалету. –Высы-пай!
Зашелестели калёные семечки, стекая в очко из узелков и пригоршней. Первая военная наука была закончена короткой лекцией старшины о том, что может и должен, а чего не имеет права делать боец Советской армии.
Два месяца основательно изучали своё и немецкое оружие, особенно конфигурацию самолётов. Потом – формирование. Машу назначили наводчиком, командиром пулемётного расчёта в 4-й зенитно-пулемётный полк 7-го корпуса Юго-Западного фронта. Саша стала её вторым номером.
Шли упорные бои за Воронеж. Верхняя половина города – у немцев, низовая – у наших. Здесь, под Отрожками, получили подруги боевое крещение, поливая из неутомимого своего «максима» свинцовым дождём вражеские цепи. Вскоре пулемёт заменили на счетверённый. Отсюда потянулся тяжкий и длинный воинский путь. При подходе к Усмани пришёл приказ отделению выехать с пулемётами к железной дороге. Откуда-то из ближнего леса вылетает фашистский «юнкерс» и бомбит наши эшелоны. Разведка его засечь не смогла – низко ходит. Поэтому аэродром его обнаружить не удалось. Так что взять его надо влёт.
Выехали двумя расчётами. Машины поставили в пролеске обочь железнодорожной насыпи – метрах в ста друг от друга. Тихо. Тепло. Лес листочки разворачивает. Шмели гудят. О войне ничего не напоминает…
И вдруг на бреющем из-за лесного гребня – «юнкерс». Совсем рядом! Маша пулемёт развернула, ждёт команды отделенного. Нет команды. Глянула за борт, а сержант под машину залез – нашёл место от бомб прятаться! Нажала сразу на обе гашетки – прямо в лоб, в лопасти. «Юнкерс» отвернул, мягко спланировал влево, и над сизо-зелёной лесной грядой вырос чёрный гриб взрыва.
Ствол пулемёта вниз опустила, и сама не знает – радоваться или ждать наказания – стреляла-то без приказа.
Вернулись к месту дислокации, а часть вперёд ушла – на Нижнедевицк. Погрузились на платформу – пошли вдогон. Маша задремала, – было время подруге в охранении на тендере стоять. Под мерный постук колёс привиделся ей Гуринский перрон и Лёнька Дягилев в белой рубашке бежит вдоль вагона, а она уезжает, уезжает…
Платформа резко дёрнулась, заскрежетало железо, хлестнули в уши близкие пулемётные очереди. Маша вскочила на ноги и опешила – её второй номер строчит по паровозу, идущему лоб в лоб их составу. По злому ли умыслу, по недосмотру ли пущен был встречный – Бог весть. Но Саша Дягилева предотвратила аварию, спасла жизни многих бойцов.
Почти одновременно получили пулемётчицы первые свои боевые награды – скромные медали. Маша – «За боевые заслуги», Саша – «За отвагу».
Своих догнали они в Касторной. Часть стояла на погрузке в эшелон. Перецепили к составу и платформу, на которой ехали девушки. Станция была буквально забита эшелонами. Судя по опыту, ждать отправки предстояло долго. Подружки решили размять ноги – спрыгнули на перрон и пошли вдоль состава. Навстречу им попался мальчик лет пяти.
Перепачканная круглая мордашка его не могла оставить равнодушным никого. И подружки начали тормошить мальчугана. Саша угостила его завалявшейся в кармане карамелькой.
– Тётеньки, уходите отсюда, сейчас самолёты прилетят и будут бомбить, – шмыгнув носом, доверительно и серьёзно сообщил малыш.
–А ты откуда знаешь?
– Знаю. Им папка мой позвонит.
– А кто твой папка?
– А он вон там сидит…
Девушки сообщили о странном разговоре своему комроты, тот – куда надо. Особисты отца взяли. Начали спешно разводить эшелоны. Но все развести так и не успели – налетели «мессеры» и станцию Касторная смешали с пылью. Урон нашим войскам был нанесён немалый.
В ходе тяжёлых боёв под Прохоровкой полк потерял две трети личного состава. При наступлении на Дремайловку автомашина с расчётом Маши Кузьминой подорвалась на противотанковой мине. Убило водителя, остальные получили тяжёлые травмы и осколочные ранения. Новенький, в преддверии боёв под Курском полученный крупнокалиберный ДШК восстановлению не подлежал. Восстанавливались люди. Те, что успели пролить кровь, но ещё не отдали жизни за Родину. Два месяца – сначала в полевом госпитале во Льгове, затем в полковой санчасти провела ефрейтор Маша Кузьмина с множественным ранением рук, ног, головы. Но пришло время снова встать к пулемёту. Так же, наверное, станочница после длительного отпуска встаёт к своему станку – спокойно, по-хозяйски проверив притёртость деталей и узлов, хороша ли смазка. Вскоре проверила и пристреленность.
Саша, получившая при взрыве злополучной мины под Дремаловкой контузию, до возвращения своего первого номера кантовалась на кухне, и как только подруга вернулась из госпиталя, упросила взводного перевести её опять в свой расчёт.
Части Юго-Западного фронта влились теперь в состав I Украинского. И повели дороги – Бобровица, где в яростном бою полк потерял четыре пулеметных расчета, Шепетовка, Львов... Зимой сорок четвёртого вышли на Вислу в районе Сандомира. И пошла польская земля.
Какой бы длинной не случилась жизнь человеческая, всё равно она уложится в считанные десятки эпизодов – когда требовалось от человека максимальное напряжение сил, воли, чувств. Потому и пишут о чём? О войне, о любви, вспоминают о покорении неприступных вершин.
О войне – о самом страшном, о героическом, и мало кому в голову приходит – об обыденном…
О любви – о самом восторженном, о трагическом, и что говорить о каждодневном…
О покорении вершин – это когда ступили ногой на… или подняли флаг Отечества, а чего рассказывать о каждом шаге восхождения, пусть и грозящего срывом, опасного, но и всего-то…
Польша запомнилась Маше Кузьминой тоже несколькими эпизодами, выпадающими из обычной солдатской работы.
Стояли на берегу Сейма. Утром командир роты распорядился, чтобы она, сержант Кузьмина, доставила в штаб полка донесение. Штаб располагался в городке за рекой.
Когда Маша дошла до середины моста, сильный порыв ветра сорвал с её головы берет. Он покружился в воздушном вихре, как блин шлёпнулся на воду и поплыл.
Как явишься в штаб не по форме?
Маша бегом вернулась на свой берег, быстро сбросила хэбэ и в одном белье бросилась в холодные волны. С моста ей что-то предостерегающе кричал часовой-азиат, но она не слушала его. Саженками быстро догнала свой головной убор и повернула обратно. Обратный путь давался с трудом – сильное-таки течение оказалось у этой небольшой, по российским меркам, реки. Да и тело неметь стало. Хорошо, догадалась завернуть к берегу – и бегом к оставленной на песке одежде!
Донесение доставила. Доложила командиру об исполнении поручения и ЧП на мосту. И вышло ей порицание: «Глупо, сержант Кузьмина, нечто не слышала пословицы «Не знаешь броду – не суйся в воду».
Но это воспоминание вроде лёгкой шутки. Там же, в Польше случалось и иное, страшное.
Остались позади разбитые Люблин, Краков, множество небольших городков и селений… Германскую границу часть должна была пересечь на поезде.
Поляки, обслуживавшие состав, оказались подкупленными немцами. Говорили, за 40 тысяч злотых. Впереди разобрали путь. Восемь человек из паровозной бригады успели сойти, один не успел. Эшелон сошёл с рельсов. Под откос полетели двенадцать вагонов, в основном передние и задние. Теплушка, в которой ехали со своей ротой Кузьмина и Дягилева, встала на дыбы на нагруженный мукой пульмановский, устоявший на рельсах.
Пока пригнали «кукушку», пока поднимали упавшие вагоны и хоронили погибших товарищей, в лесу поймали бежавших поляков и тут же, возле насыпи, устроили показательный расстрел по закону военного времени.
Двинулись дальше. Нервы у всех были напряжены до предела. Возбуждённо теснились у раздвинутой двери вагона. Вдруг на зелёном чистотравном откосе увидели женщину. Вся в чёрном, она поднимает кулак и грозит эшелону и что-то кричит.
Саша срывает с крючка свой автомат и даёт длинную очередь – как будто стреляет по всей этой продажной, опасной Польше. Старуха оседает на зелёную траву – остаётся виден лишь чёрный бугорок.
За Одером прошли с боями Кебен, Гурау, Штейнау, Бреслау. В уютном этом, почти не разбитом артиллерией и не разбомбленном городке стали основательно. Почти обжились. Начала работать баня. Открылось несколько магазинчиков, и даже парикмахерская.
В то утро, такое тихое и мирное, девчонки наметили пострижку. Но явился взводный и приказал Кузьминой сходить в санчасть за индпакетами. Закинув автомат за плечо, вышла она на пустынную улицу, залитую медовым светом восходящего солнца. Далеко впереди – квартала за три – маячил патруль. У «Булочной» на другой стороне улицы выгружали хлеб. Обывателей видно не было – большинство немцев ушли на запад, и уютные двух-трёхэтажные дома их опустели. Интересно было зайти в чужую брошенную квартиру – посмотреть, как они жили, эти немцы. Оказалось, жили обыкновенно. Лучше, конечно, чем в России, богаче. Но… тоже фотокарточки на стенах, в брошенных альбомах… кровати… столы, стулья… безделушки всякие. Маша и сама себе объяснить не смогла бы, что потянуло её в длинный узкий проезд меж двумя одинаковыми, как близнецы, двухэтажными домами. Там, за сумрачным каменным туннелем виднелся залитый золотым солнечным светом дворик, и кажется, просто захотелось ей побыть хоть минуточку в этой утренней благости, в солнечном молоке…
Она уже почти вышла из туннеля, когда навстречу ей резко выступила мужская фигура. Как моментальный снимок, выхватило сознание: молодой, высокий, светловолосый немец. По выправке и по тому, как резко дёрнулась правая рука его к поясу, туда, где крепится кобура – военный. Но кобуры не было. Был гражданский пиджак, скорее всего, с чужого плеча, так как рукава очень коротки, и серые солдатские брюки. Кажется, он тоже не ожидал этой встречи.
Секундным делом было для Маши сдёрнуть с плеча автомат. Но странное изумление, да, да, не испуг, не удивление, а именно изумление на лице мужчины остановило её. Несколько секунд они стояли друг против друга – на расстоянии руки. Одним движением он мог бы вырвать у неё оружие: он был мужчина, молодой и сильный…
Но он сделал полшага назад, резко прянул в сторону улицы и через секунду исчез.
Маша опомнилась быстро. Выбежала следом. Но и справа, и слева улица была пуста…
Вилька Дейс, окончив школу, целый год проработал на ферме. Хотелось настоящего мужского дела, а тут – вычищай клети, таскай охапками сено-солому, рассыпай отруби в пойло. И так изо дня в день, всю жизнь. Он мечтал о героической профессии – полярника, лётчика, или, на худой конец, горняка, каким был его отец у себя на родине, в Германии. Там мужское братство, настоящая дружба, подвиги, а здесь, в совхозе – всяк сам по себе. Скучно…
Когда отец рассказывал о своей революционной молодости, у Вильки загорались глаза. А мать, печально покачивая головой, вспоминала, как тихо текла жизнь в их милом Бреслау, об оставшихся там родителях, брате Михеле Питлере, владельце цирюльни: «И всё эта революция… Такие испытания…». Отец возмущённо фыркал и уходил на крыльцо, где одну за одной выкуривал несколько папирос, пока не успокаивался.
Вилька был на стороне отца, считая идеалы матери мещанскими, обывательскими. Он железно решил стать горняком. Самое ближнее место для реализации его планов – Донецкий бассейн. Туда он и отбыл июньским вечером сорок первого года с гуринского пыльного вокзала скорым до Киева. В поезде Вилька познакомился с человеком, который уговорил его махнуть на «более перспективный», по его словам, Львовско-Волынский угольный бассейн. Вильке было без разницы, и в Киеве он взял билет до Волыни. Место досталось ему верхнее. Пожевав хлебушка и запив его кипяточком, он решил завалиться спать, что и сделал без промедления.
А проснулся от резкого рывка – едва не слетел с полки. Паровоз истошно гудел, будто из горловины свистка его вытягивали якорную цепь. Пассажиры заметались, натягивая одежду, хватались за вещи, тормошили детей: «Вставайте, авария». Слезая с полки, Вилька поглядел в верхнее стекло окна. Вдоль насыпи перебегали вооружённые люди в маскировочных халатах, квадратных касках. От состава вверх к лесу побежали три фигурки. Раздалось несколько очередей, и фигурки распластались на склоне. Вилька, как и большинство пассажиров, ничего не понимал. «Что? Что такое? Крушение?» – раздавалось вокруг, пока старый хохол с бульбинскими усами и в расшитой косоворотке, едущий в соседнем отсеке, громко и внятно не произнёс: «А що ж вы хотели? Це ж война. Вин они, нимци». Шум на секунду стих и возобновился с новой силой. Дверь в вагон распахнулась и в проёме вырос парень в маскхалате, с автоматом:
– Laufen alle draussen! Los! Los! Schnell!2
Вилька спрыгнул со ступенек тамбура последним. Людей из всех вагонов начали сгонять в одну кучу. Стоящий рядом солдат пихнул его прикладом. Удар пришёлся по плечевой кости – довольно больно.
– Warum prugelst du dich?3 – огрызнулся Вилька, как огрызнулся, если бы ударил его кто нибудь из совхозных приятелей.
Солдат, не ожидавший такой реакции, удивлённо открыл рот, потом, опомнившись, схватил Вильку за рукав:
– Wer bist du? Wie heisst du?4
– Wilgelm Deis5 , – сердито ответил Вилька, выдёргивая руку.
– Bleibe stehen! Komm mit!6 – солдат отпустил рукав Вилькиной куртки и дулом автомата указал, куда идти.
Они подошли к группке военных в камуфляже. Вилькин конвоир, шлёпнув голенищами сапог друг о друга перед одним из них, высоким и длиннолицым, доложил:
– Herr Leutnant, dieser spricht deutsch.7
– Gut. Du kannst gehen8 , – бросил лейтенант и обратился к Вильке:
– Woher kommst du? Wie ist dein Vorname?9
Короче, допросили Вильку по всем правилам. Скрывать ему было нечего, и он рассказал обо всём, о чём спрашивали. Единственное, сам не зная почему, на вопрос о родителях ответил коротко: «Gestroben»10 . – «Wo, Wann?»11 – «1932, in Engels, vom Hunger»12 .
Вильку оставили в диверсионном отряде переводчиком, поставили на довольствие. «Die Pflicht jedes richtigen Deutschen ist es, dem Fuhrer und dem Reich zu dienen»13 , – напутствовал его лейтенант. До войны он работал школьным учителем в небольшом городке под Берлином, преподавал историю. Он знал, что городок их вырос из славянской деревни Марьевки, и всё, что связано было с Россией, его интересовало особо. Мобилизацию и «Drang nach Osten»14 он принял как знак судьбы; теперь-то у него будет возможность изнутри изучить эту загадочную Руссию. Но на изучение не оставалось времени: они захватывали русские земли и шли вперёд. Вперёд и только вперёд…
Когда-нибудь потом, после войны, у него появится время… А пока… Лейтенант в короткие часы отдыха призывал переводчика Дейса, родившегося и выросшего в России, среди русских, и они разговаривали. Лейтенанта удивляло, что для Вильгельма русские были точно такими же людьми, как и его соотечественники, а своего лучшего друга Ганса из далёкого совхоза он называл совсем по-русски Ганькой.
Полоса ошеломляющих успехов для немецкой армии закончилась. Начались тяжёлые бои, яростное противостояние, а там и вовсе повернулось колесо фортуны. Уже давно затерялись в белорусских лесах следы первого Вилькиного командира. А сам он в ефрейторском звании прикомандирован к штабу 134-й мотострелковой дивизии. Он многое успел увидеть, о многом подумать. Он, Вильгельм Дейс, переводчик. Он никого не убивал. Он спрашивает, даже не спрашивает, а доводит до ушей пленённых смысл задаваемых другими вопросов. Но тех, кто не хочет его понимать, не хочет даже слушать – бьют, забивают до смерти.
А ведь с такими же, как они, эти советские военнопленные и партизаны, совсем недавно он, Вилька, играл в лапту, в волейбол, грыз тайком надранные в совхозном саду зелёные кислые яблоки…
На всю оставшуюся жизнь впечатался в Вилькину душу один допрос. Их взяли в лесу под Грюндорфом – троих русских разведчиков. Двое – совсем молоденькие, лет по по восемнадцати-девятнадцати. Старший – Лёнька Дягилев из Кущёвки. Лёнька учился двумя годами раньше его, Вильки, в Гуринской средней школе. Старшеклассников школьники почему-то запоминают. Да Лёньку и трудно было не запомнить. Он был заводилой школьной самодеятельности – лихо наяривал на гармонике «Катюшу», вальс «На сопках Маньчжурии», мог наиграть любую мелодию.
Арестованных допрашивали по очереди. Последним – Лёньку. Никто из них ничего не сказал. Лёнька, жмурясь от света наведённой на него лампы, зло кривил губы и цыкал на пол кровавой слюной через прощелину от выбитого зуба. Это особенно бесило допросчиков. Лёньку били, и он, помотав головой, снова кривил рот в усмешке и цыкал.
Вильку он не узнал, да и вряд ли мог допустить мысль, что кто-то из гуринской «мелкоты пузатой» может оказаться здесь, среди врагов. К тому же он, Вилька, оставался в тени. Сам же он не подал и виду, что знает этого русского парня.
Всех троих расстреляли. А из Германии в три уголка России полетели белые конверты с чёрными строчками – «пропал без вести». Но этого Вилька уже не мог знать.
Как шагреневая кожа, сжималась территория рейха. Центростремительная сила выхватывала со всех сторон и всасывала вначале вальяжные «оппели», штабные «виллисы», вслед за ними сворачивались валы фронтов… Повальное, уже не управляемое единой волей фюрера отступление занесло Вильгельма Дейса в Бреслау. До Берлина отсюда рукой подать. Дальше бежать некуда. Вилька вспомнил, что это родной городок его матери, фрау Марты, урождённой Питлер, и что здесь, может быть, ещё живёт его родной дядя Михель. Он пошёл в городскую управу, и там ему выдали квиток с адресом.
Дядя оказался худым жилистым стариком. Он ещё держал свою брадобрейню, но теперешняя клиентура – солдаты – мало приносила дохода. При появлении племянника герр Михель восторгов не выказал, однако, прощаясь, пригласил заходить.
Через неделю город заняли советские войска. Мощной обороны в городе не было организовано, поэтому советские танки с ходу прошили город до западной окраины, а после короткой перестрелки стоявший в Бреслау небольшой гарнизон и разрозненные отступающие части спешно покинули его.
Вилька спрятался у дяди. Вместо засунутого в кладовку кителя тот дал ему свой пиджак. В плечах он был ещё ничего, но размера на два короче, чем следовало бы. Брюк по росту не нашлось вовсе, и Вилька остался в своих форменных. Дядя приказал племяннику первое время носа на улицу не высовывать. Сам же на третий день по приходу русских отправился в комендатуру с предложением открыть парикмахерскую. «Добре дило», – сказал плотный лысоватый майор, черкнул на листике бумаги две строчки и пришлёпнул печать. Разрешение Михелем Питлером было получено. Первым делом он навёл порядок в салоне. Подвязал белейший из своих фартуков, поправил перед зеркалом бабочку и выступил на крылечко: «Bitte. Ich ichneide und welle vhre Haare. Ich rasier sie».15
Перед витриной его парикмахерской собралась кучка солдат – поглядеть, как в цирке. Стояли и смотрели, как-то застенчиво пересмеиваясь, пока усатый бывалый старшина не хлопнул себя пилоткой по ляжке: «Эх, где наша не пропадала!» И уселся в кресло. С этой минуты дело пошло. Занимали очередь ещё до открытия.
Всю прошедшую ночь в городе стояла пальба. Небо прорезалось трассирующими очередями, то и дело вспыхивали яркие электрические букеты.
Вилька простоял возле окна, глядя в расцветающее огненными вспышками чёрное небо. Утром, когда дядя оделся, чтобы идти в свою парикмахерскую, невыспавшийся, возбуждённый, он сказал, что уходит:
– Lebe wohl, Onkel Michel!16
Неожиданное появление племянника, потом его дезертирство только осложнили жизнь старого Питлера. Конечно, хорошо бы передать собственное дело Вильгельму, но тот не видит иного выхода для себя, кроме как пойти в комендатуру и всё рассказать.
– Du wirst erschossen17 .
– Nein. Man bringt mich nach Russland, dort werde ich vielleicht ins Gefangnis eingessperrt, aber wenn man mich freilasst, kehre ich ins Sowchos zuruck Dort sind Vater, Mutter, Schwestern…18
О том, что семью Дейсов вместе с другими немцами из гуринского совхоза в самом начале войны вывезли в казахские степи, Вилька не знал, как не знал и уготованной ему участи. Да и может ли кто, вечером ложась спать, с уверенностью сказать, что утром проснётся?
– Moge Gottersmutter dich schutzen19 , – ответил дядя и, спускаясь по лестнице во двор, подумал: Bin ich nicht mehr am Leben, ist auch mein Friseursalon weg.20 И уже выйдя во двор, равнодушно произнёс: Na gut. Alles ist in Gottes Hand.21
Вилька выскользнул за дверь пятью минутами позже, хотя бояться было нечего – второй этаж пустовал, все ушли на Запад. Только в первом этаже жила глухая старуха – божий одуванчик.
Он опасался лишь патрулей, поскольку решил прийти в комендатуру сам, а не в качестве задержанного. Патрули проходили по Гартенштрассе по два раза в час. Шли без опаски, по самой середине улицы. Вилька выждал, пока солдаты отойдут подальше, и почти вбежал в тёмный узкий проход, ведущий на улицу. Он чуть не сбил с ног эту дуру, эту растяпу. Чуть не сорвал с её плеча автомат и…
Но он увидел лицо, и его самого будто прикладом по голове ударили. Круглая курноватая физиономия с округлившимися от страха глазами показалась Вильке почти родной.
Он зажмурил глаза, прянул в сторону и выбежал на пустую утреннюю улицу…
Рыжий, с крупными весенними конопушками русский офицер, напомнивший Михелю Питлеру погибшего в России год назад старшего сына мясника Швама, уселся в кресло первым и весело сообщил: «Всё, дед, Берлин каюк, Гитлер капут!».
Старому парикмахеру радостной эта весть не показалась. Скорее, обострилось чувство страха. Впрочем, с этим чувством он жил уже давно, очень давно. Пожалуй, только в детстве было ему легко и беззаботно. А потом… Голод, безработица, война, революция, отнявшая у него единственного близкого человека – сестру Марту. Потом к власти пришёл фюрер. Для них, немцев, жизнь стала налаживаться, но страх, загнанный куда-то вглубь утробы, пульсировал там подобно воздушному шару: избивали евреев, опустошали библиотеки, газеты кричали о врагах рейха. Ему, Михелю Питлеру, в общем-то, дела не было бы до всего этого, если бы не разгромили лавчонку Арона Израилевича – через дорогу от его парикмахерской – всегда такого вежливого, добродушного человека. «Oh, Herr Michel! Sie sind ein alleinstehender Mensch. – вздыхал Арон Израилевич, когда доводилось им вместе проделать путь до дома. Жил он двумя кварталами дальше Питлера. – Der alleinstehender Mensch ist ein glucklicher Mensch. Nehmen Sie mich mit! Vier Fraulein und kein einziger
Sohn. Wer ubernimmt Аrons gekhaft?!».22
«Wem verde ich mein Geschaft hinterlassen»,23 – думал, оставаясь один, Herr Мichel. – «Ну, что ж, не станет и моей парикмахерской…» Эта мысль почему-то не пробуждала страха. Он, страх, дремал и тогда, когда Германия захватила Австрию, Чехословакию, когда войска фюрера вошли в Париж. Страх всколыхнулся, когда начался великий поход на Восток. Не было оснований для этого. Великолепная военная машина, созданная гением фюрера, способна была преодолеть любые расстояния и перемолоть любые препятствия. Но страх ожил. И теперь, когда не стало империи фюрера, а остался он, старый цирюльник Михель Питлер – в своём городе, занятом чужими солдатами – этот страх сковывал всё его тело. Однако он привык к порядку, привык работать. Может быть, эти привычки и удерживают нас в жизни? Парикмахер привычно глянул в зеркало, машинально поправил бабочку и распахнул дверь: «Bitte! Oh, heute haben wir mehr Kunden als gewohnlich»24 .
Следующей за рыжим оказалась девушка. Она легко вспорхнула вслед за хозяином по ступенькам, повесила на рогатую вешалку в углу пилотку. Ладненькую фигурку ничуть не портили гимнастёрка и юбка цвета хаки, но сапоги казались громоздкими и грубыми.
– Was wunschen Sie?25 – cпросил парикмахер.
Девушка пальцами поерошила волосы и вопрошающе заглянула ему в глаза – понял ли?
– Ja, ja. Ich habe Sie verstanden. Setzen Sie sich hier bitte!26 – Cадитесь сюда, пожалуйста.
Парикмахер галантно усадил девушку в кресло, немного театральным жестом встряхнул облежавшуюся за ночь простыню, накинул её спереди и ловко укрепил под воротничком.
И тут дзенькнуло стекло. Голова девушки резко дёрнулась набок и из виска её по щеке на белое полотно простыни мягкими толчками потекла тёмная струйка. Герр Михель, ничего не поняв, застыл позади кресла с разведёнными руками. В одной держал он расчёску, в другой блестели ножницы. И тут его больно клюнуло в грудь. На белой манишке – чуть ниже и левее бабочки распустился алый цветок.
Маша возвратилась из санчасти с набитым индпакетами вещмешком и на подходе к особнячку, в котором квартировали, почувствовала: что-то не так. У подъезда стояла полуторка с опущенными бортами. В кузове лежало что-то длинное, бесформенно-длинное…
Возле машины ходили несколько бойцов. По их движениям, или по чему-то уж вовсе неуловимому Маша поняла: кто-то погиб. Она ускорила шаги, почти побежала, но ноги отяжелели.
Когда она подошла к грузовику и выдохнула «Кто?», командир отделения сержант Беба отвёл глаза. Все молчали. Маша откинула край плащ-палатки. Знакомые, больше чем родные, светлые волосы подруги зашевелились под свежим утренним ветерком. В приоткрытых губах сквозила улыбка. Мягкая живая улыбка, застывшая на мёртвом лице.
Ефрейтора Александру Дягилеву похоронили с полагающимися воинскими почестями на городском кладбище рядом с захороненными в братской могиле солдатами, погибшими при взятии Бреслау. На том же кладбище, только на другом участке, комендантский взвод закопал цирюльника Михеля Питлера.
А вскоре началась демобилизация. Пожилых бойцов и женщин отправляли в Россию в первую очередь. Это были те самые эшелоны, которые с цветами, слезами и плясками встречала Москва.
Московский скорый проходил через Гурино в семь утра. С какой-то из предыдущих крупных станций сообщили по телефону, что едут фронтовики. Весть, несмотря на ранний час, разнеслась по округе, и из всех окрестных деревень бежали, ехали верхом и на телегах люди в надежде встретить своих близких. Гуринский перрон и привокзальный скверик были забиты народом. Едва скорый начал притормаживать, из вагонов посыпались бойцы, и когда Маша показалась в дверях тамбура со своим трофейным чемоданом и солдатским вещмешком, в ладно подогнанной гимнастёрке с сержантскими погонами, тремя медалями и нашивкой за ранение на груди, кто-то из солдат крикнул: «Ребята, сестричка до дому приехала!» Сразу несколько сильных мужских рук потянулись к ней. Кто-то взял чемодан, кто-то снял с плеча ремень «сидора». Её подняли на руки и стали качать. Взлетать над людской толпой было одновременно страшновато (а ну, как уронят) и лестно (земляки видят). Не опускали долго, пока она не догадалась обхватить руками шею рыжеусого незнакомого бойца и з
апричитать: «Ой, хватит, голова закружилась!»
О Великой войне сегодня написаны тома, из которых можно едва ли не всё узнать о состоянии противостоящих армий в каждый конкретный период боевых действий, о дислокации войск, о стратегических планах командования и тактических подвижках боевой силы и техники. Описаны панорамно генеральные сражения и тщательно разработанные операции, подвиги конкретных героев войны и литературных персонажей. Что в этом море художественной, специальной, загрифованной знаком «секретно» литературы описание одной фронтовой судьбы, пусть и главного персонажа театра военных действий – солдата? К тому же солдат этот – девушка, существо, вроде бы, изначально не предназначенное для битв…
Есть в науке путь исследования от частного к общему, и наоборот. Так качается маятник человеческого интереса во всём, происходящем на свете – от явлений, охватывающих всех, к касающимся лишь конкретного человека. А ежели отстраниться во времени от происходящих событий, то увидишь, что всё едино: общее составляется из частных, и только знание этих частных, этих частиц, позволяет ясно понять картину общего.
СОДЕРЖАНИЕ
От издателя.
Часть I. Квадруга.
Часть 2. Точки отсчёта.
Часть 3. Просто, просто, просто…
Часть 4. Поиск.
Часть 5. В пределах времени.
Рассказ Николая Киприановича Даршина.
Часть 6. Ветви дерева.
Часть 7. Так было всегда.
Часть 8. Выпали им дороги.
Часть 9. Цугом вытянем.
Д. Лобузная. Роман о Пензе (Опыт лирического послесловия.)