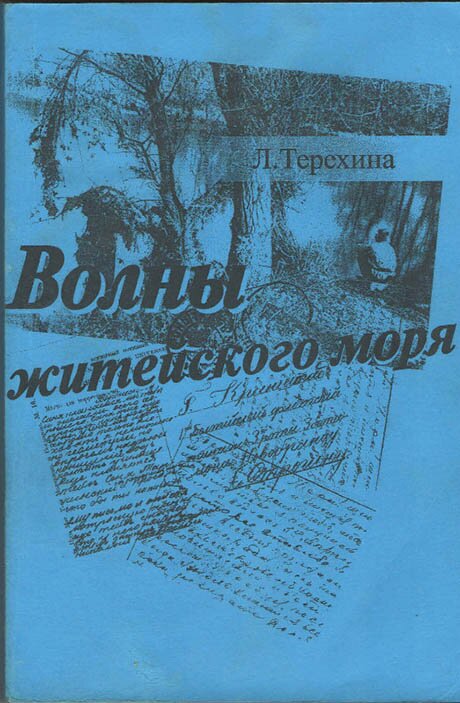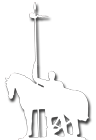Лидия ТЕРЁХИНА
© Л. И. Терёхина, 2005
РАССКАЗ
НИКОЛАЯ КИПРИАНОВИЧА ДАРШИНА
В девятнадцатом году наша Восьмая Армия в Новочеркасске базировалась. Тятя тоже туда из Воронежского резерва был перемещен, в кондукторы. Мы с ним там несколько раз виделись. Он всё на сердце жаловался: – нет-нет – говорит – да прихватит. А маманя одна в Воронеже оставалась.
Паровозные бригады в Новочеркасске набрали из старых путейцев. Я с ребятами – в охранении, поезда сопровождали. Тогда весь юг как в котле кипел: красные, белые, банды разные – всё перемешалось. Так что не зевай! В июне белые поднажали и круто нас в оборот взяли. Пришлось отступать. Станции в большинстве своём в наших руках, а в степи по дорогам белые командуют, махновцы, Маруси да Грицки страх наводят. Новороссийск в окружении. Эшелоны с военным имуществом мы успели отправить, а штабной вагон с документами и деньгами прицепили к последнему паровозу – из тех, что на ходу были. За вагоном – платформу с двумя пулемётами и теплушку для взвода охранения. Пошли белым днём, ночью-то ещё опасней было. И напоролись верстах в сорока от города на отряд беляков. Они, по-видимому, только что заняли полустаночек, ещё укрепиться не успели, пулемётные точки не оборудовали. А тут мы кочегарим на всех парах. Машинист у нас бывалый, опытный оказался.
Ещё на подходе к полустанку тому почуял неладное, топку приказал до предела раздувать. Так мы сходу и ломанули. Они не успели даже стрелки на тупик перевести – уж очень всё быстро произошло. Стрельба с обеих сторон, трах-тарарах…
Прорвались мы, но они на-конь и вдогон пустились. У нас пулемётчика срезали. Взводный кричит: «Даршин, с паровоза сигналят – вали туда!» Ну, я на полном ходу на тендер вскарабкался и в машину. Оказалось, машиниста убили, паровоз сам, без управления шпарит; кочегар побледнел – даже сквозь угольную пыль заметно.
Помощника машиниста в шею ранило. Он без сознания. Кровь кругом. Хоть артерию и не задело, всё одно мог бы истечь кровью. Я индпакет разорвал, перевязал рану.
Он так, в углу приткнувшись, и притих. Хорошо, кочегар вовремя сигнал подал – впереди профиль пути резко менялся, еще бы чуток протянуть – и полетели бы под откос. В общем, вытянул я эту сцепку к своим. После того, как имущество сдали, велели нам сперва к полевой кухне причалить. Вот тогда-то я и ударил по каше. А потом от командира бригады личную благодарность получил и премию – добротные, почти новые сапоги с хромовыми головками.
Передислоцировались мы в Купянск. Слухи ходили нехорошие, дескать, всё понизовье под белыми и наши части отступают. Говорили также, что многие наши воинские подразделения в полном составе к противнику перемётываются. Коммунистов, комиссаров и иудеев те, конечно, вешают, а простых солдатиков к присяге приводят и под ружьё ставят честь честью. Слухи – слухами, а дела – делами.
В августе, как помнится, и Купянск оказался на осадном положении. Наши из последних сил держали дорогу. Но вскоре началась спешная эвакуация. Купянские паровозные бригады не захотели уходить с красными. Затушили паровозы и разбежались по своим домам. Белые же рвались в первую очередь к эшелонам с военным имуществом.
Я своим ребятам из службы охранения говорю: «Что, ребята, пропадать, так с музыкой! А ну, как удастся прорваться? Пешим ходом ведь всё равно не уйдём. А в ремонтном цеху маневровый стоит – если успеем его раскочегарить – уйдём». Ребята работали как в последний раз. Прицепили состав с имуществом парка и дивизии и пошли. Остальные эшелоны под белыми остались. Из города мы легко вышли, уже обрадовались, что прорвались, а тут из-за левадки наперерез нам – конница. «Поддай жару, ребята!» – ору. А самому страшно: не уйдём, не успеем. Отряд на нас выкатился большой, не меньше сотни сабель, а нас всего семеро. Однако шли на хорошей скорости. Большая часть нападавших позади осталась, и лишь несколько человек, на хороших конях, не отстают. Особенно один, в портупее и кубанской папахе – наравне с паровозом шпарит. Путь на участке как стрела, а вдоль насыпи – дорога.
Я от приборов к окну мечусь. Офицер тот уже руку к поручню тянет, на ходу хочет на паровоз перемахнуть. Я выстрелил. Хоть он и совсем рядом был, но стрелять неловко – винтовка длинная, не развернёшься с ней как следует. Всего-то от моего выстрела папаха с офицера слетела. Он голову задрал, зубы оскаленные. Я так и обмер: «Яша!» Кажется, даже закричал «Яша!» Винтовку уронил, меня затрясло всего. Не знаю, узнал он меня или нет, ведь не виделись почти шесть лет. Разве что крик мой услышал. Яша коня осадил и остался там, в степи под Купянском.
– Дядя Коля, – после короткого молчания спросил Кирилл, – он что, дядя Яша, погиб там?
Николай Киприанович молча поднялся из-за стола и прошаркал к комоду. Покопавшись в верхнем ящике, вернулся и протянул Кириллу какую-то карточку.
– Теперь можно рассказать. Яша бежал с бароном Врангелем из Крыма на пароходе. Он жил в Париже, работал там таксистом. Представляешь, русский офицер, ротмистр Яков Даршин развозит праздную парижскую публику! Да-с. Вот этот силуэт он прислал незадолго до Второй мировой войны. Яша несколько раз писал нам, но мы не ответили ни на одно его письмо. Боялись.
– Чего боялись? – спросила Вера.
Дядя Коля не ответил.
Теперь круг замкнулся.
На следующее утро после этого разговора Вера подсела к Николаю Киприановичу, вышедшему погреться под солнечными лучами на скамеечку у крыльца.
– Дядя Коля, а если бы Вы с Яковом Киприановичем встретились тогда лоб в лоб, Вы бы смогли его убить? – задала она мучивший её вопрос.
– Мы же встретились. Я стрелял.
– Но Вы же не знали, что это он. А если бы знали наверняка?
Николай Киприанович ответил не сразу.
– Не знаю… Наверно, убил бы, окажись в безвыходном положении. Яша меня точно убил бы. Он у нас был самый отчаянный, – закончил он с нескрываемым восхищением и гордостью за брата.
* * *
«Что сделают в следующий момент эти юноши с чистыми открытыми лицами, стоящие в обнимку на фоне высоких сосновых стволов: чубатый красавчик Лёва Кригер; оголённый по пояс, большеглазый мускулистый Кумир; в распахнутой полосатой рубашке-апаш застенчивый очкарик Кирилл и белозубый крепыш с жестким ёжиком волос – Митя Заамурский?» – подумала Вера Андреевна, разглядывая поднятую с пола фотографию. Она тихо выскользнула из расклеившегося конверта.
Лев Карлович Кригер здесь, на земле, в этой жизни не сумеет уже ничего.
Даршины встретили его случайно на улице за день до смерти, и похудевший, но всё ещё красивый Кригер сказал, что не хочет жить в этом борделе. Ни Кирилл, ни Вера не нашли для него слов утешения, кроме «Ну, что ты, Лёва, всё ещё образуется». Хотя, как и он, понимали, что образуется уже не для них. Просто когда-то должно же образоваться… Затаённая вера в это сродни была вере в Господа Бога. Ведь коли уж Он есть, значит, когда-то должна и в России, и на всей земле настать справедливая жизнь.
Но завладевшие народным богатством правители уже не хотели жить, как «этот народ», имущие власть жаждали развернуться во всю ширь, сыпануть наворованными деньгами по заграницам: «Эх, да вдоль по Брайтон-бич!» – а потом хоть и трава не расти на вскормившей их земле. «В этой стране», – как они называют Россию.
Народ же… А что народ? Натерпевшись хамства партбоссов и мелких их прихлебателей, надеялся, что, наконец, жизнь изменится к лучшему. Ведь медведеобразный, косноязычный временщик клялся на рельсы лечь, но не допустить массового обнищания. Допустили. Даже опустили людей ниже некуда. Собственно говоря, по вековечной российской традиции порушили человеческие судьбы и лишили надежд. Телевидение, да и прочие СМИ, вполне заслуженно облаивали «коммуняк». Есть за что! – хотя бы за то, что подвели Советский Союз к пропасти, позволили начать основательное разрушение великой страны, а многие и сами приложили к этому руки.
Самые разные деятели манили людей горами золотыми и, как свора псов, воющих на Луну, воспевали капитализм.
Довоспевали, дославили – теперь что ни день – теракты. Обещанная свобода обернулась бедой: наиболее коррумпированные, криминальные регионы требуют отделения от России, верхушка которой сама отделилась от масс. Изображает из себя Моисея, водящего свой народ по пустыне – пока не вымрут имущие память. Они и вымирают. А распропагандированная и брошенная на произвол судьбы молодёжь пытается выжить. Утекает за бугор за манной небесной, якобы сыплющейся в америках на всякого, уходят в уголовщину или в проституцию, спиваются от безнадёги и безработицы. А чтобы не так больно было, благодетели осыпают страну наркотой.
Осевший в Белой Руси Борька Шергин написал Вере по поводу топтанья властей вокруг проблемы очередного воссоединения двух братских республик: «Я не хочу объединяться с криминальным государством». Это о России, где для желающих работать – нет работы, а для работающих – нет денег на зарплату. Господа либералы во главе с Явлинским вбросили в массы дилемму: «Вы хотите всё отнять и поделить или вы хотите работать и зарабатывать?» Лукавые господа! Первое уже осуществлено.
Кучка хватких прохиндеев рассовала по собственным бездонным карманам богатства страны, а кто работает, тому зачастую даже поесть вдоволь не на что. Судите сами: даже просчитанный прислужниками «благодетелей» прожиточный минимум недосягаем для подавляющего большинства работных людей, врачей, просветителей… Страшный посев. Распустившаяся армия, скопища бомжей, пасущихся на городских помойках, продающиеся и продающие всё и вся – это ли граждане великой страны?
Кто не потерял последней надежды – уверовал в Бога. Кто не потерял последней любви – выживает в России.
* * *
На первом курсе Училища как-то исподволь сложилась «квадруга» и у Веры Кузьминой: Шергин, Толик Лен, она и Тихонова. Дружба их была без всяких намеков на интим, почти братская. Им было интересно вместе. Совсем разные по характерам, по внешности, по увлечениям, по всему, они, дополняя друг друга, составляли нечто целое. «Не разлей вода», – говорила о них кураторша – историчка Елена Самсоновна.
Заводной, авантюристичный Борька был мал ростом, кривоног, широкоплеч. Огромные очки осаждали его маленький курноватый нос, увеличивая и без того большие тёмно-карие глаза. Одевался он экстравагантно – носил красные широкие штаны и в любое время года – толстовки серого цвета. Толик был красив и элегантен.
Стройную фигуру его подчеркивали всегда отутюженные, со стрелочками брюки и светлые в полоску рубахи. Он был бледен, голубоглаз, льняные волосы его слегка кучерявились, а точёный тонкий нос намекал на благородство кровей. Тихонова, в отличие от крепко сбитой, смугловатой Веры, была до прозрачности худа и огненноволоса. Она могла бы показаться некрасивой, однако маленькие светло-зелёные глаза её и конопушки на лице, руках и шее при её утонченности принимались окружающими как некая изюминка, что ли. Перед живописным чутьем Тихоновой пасовал даже Шергин, увлекавшийся в ту пору постимпрессионизмом и вообще всякими «измами». Борька экспериментировал, зачастую вызывал возмущение преподавателей, работавших в рамках реалистической школы и требовавших того же от учеников.
Лен и Вера за эти рамки не вырывались: учились, чему учили. Правда, Веру отвлекали её стихи, но Толик упорно колдовал над учебными постановками. Результаты его трудов не оставались незамеченными – его хвалили на каждом просмотре, его работы отбирали в фонд Училища.
Тихонову и Лена сразу после распределения поглотили волны житейского моря. Они изредка – порой раз в несколько лет всплывали над бурной его поверхностью, чтобы аукнуться со старыми друзьями, и снова исчезали в пучине.
Их курс распределяли в Куйбышевскую область и в Чечню – кроме тех, на кого пришли персональные заявки. Четверке друзей, как лучшим студентам, предложили выбор. Они выбрали Куйбышев и через неделю после получения дипломов отправились за назначениями. Куйбышевский областной отдел народного образования раскидал их по разным районам: Лен отбыл в Чапаевск, Шергин в Тольятти, Тихонова в Отрадный. Вере достался большой рабочий посёлок Тимашево.
Построенный там до революции сахарный завод щедро источал аромат гниющей в отстойных ямах мезги, и привыкнуть к нему было не просто. Впрочем, Веру поселили на юго-западной окраине поселка, на лесной опушке, рядом с Кинелём. Запах туда почти не доносился, потому что дули редко северо-восточные ветра.
Работать пришлось в двух школах – средней и восьмилетке. Две ставки по молодости не казались слишком обременительными, зато радовало невиданное доселе богатство – две по сто двадцать зарплаты. Получив такую огромную по тем временам сумму в первый раз, Вера накупила всевозможных подарков родне и уйму безделушек для себя. Правда, роскошество это скоро прекратилось – надо было одеться, обуться. Надо было подумать о завтрашнем дне. К тому же деньги быстро обесценивались.
В осенние каникулы – учителей обязывали ежедневно приходить в школу – неожиданно нагрянули Борька и Лен. Шергин заявился в обнимку с трехлитровой банкой
«Агдама» – самого доступного и дешёвого вина. Сам скалил зубы: «Хочешь – будем пить, хочешь – школьный забор покрасим». Банку открывать не стали. Съели быстренько всё, что у Веры приготовлено было на день для себя, и единогласно решили поехать к Тихоновой.
– У неё, пожалуй, комфортнее будет, – заявил Шергин. – Твоей хозяйке может не понравиться, что мы с вином, а у Тихоновой своя комната в общежитии. – Обнял банку-путешественницу – и вперёд, в Отрадный.
В общежитии – одноэтажном, барачного типа строении – Тихоновой не оказалось. Выглянула любопытствующая соседка и сообщила, что Людмила Петровна у Лёшки дома, он повёл её с родителями знакомить.
– А кто такой Лёшка?
– Лёшка-то – жених ейный.
– Ну и Тихонова! Ну и тихоня! Ай, ах… Что делать?
– Раз уж приехали – повидаться надо – однозначно разрешил возникшую проблему Шергин. – Айда до Лёшки! Где он живёт? – спросил пристывшую к дверному косяку соседку Тихоновой.
– А вот как пойдёте туда прямо, – показала она рукой, – там справа будет овраг. А в овраге мосток железный. На ту сторону перейдёте, в частный сектор, значит, и там на взгорке третий дом от тропинки ихним будет, ежели налево глядеть.
Пешее путешествие к Лёшкиному дому заняло минут сорок, но нашли-таки и овраг, и мосток, и хозяева оказались дома. Поначалу они опешили. Однако Лёшкин батяня, на деревянной ноге, хитроватый, подвижный мужичок, едва разглядел Борькину банку – тут же в дом пригласил. По широкой русской натуре – гулять так гулять – ещё самогону полчетверти на стол поставили, закуски всякой, как в деревне: и сала, и огурчиков-помидорчиков, и капустки хрусткой и масляток скользких наметали. Мать Лёшкина картошки варёной в блюдо насыпала. Пар пошёл, пир горой. Приехавшие нежданно-негаданно гости Лёшку незамедлительно одобрили. Без дураков парень. Шоферит на нефтепромыслах, а промеж дел и поговорить мастак. Вроде как даже книжки кое-какие читал.
Гостеприимные хозяева всех ночевать оставляли: дом большой, места хватит. Но гости сочли, что это будет уже перебор, и отчалили к последнему автобусу. Счастливые Лёшка и Людмила Петровна провожали их, взявшись за руки.
После той памятной встречи друзья много лет не виделись. Вера вернулась в Пензу – работала, встретила своего Кирилла, занималась детьми. Тихонова со своим избранником жила в Отрадном; народили они четырёх девчонок. Очень уж хотелось Лёшке наследника. Шергин уехал в Минск, где окончил полиграфический институт.
Пока учился – женился, да так и осел в Белоруссии. Лен, как и Вера, тоже вернулся в Пензу. Промышлял оформительством. По слухам, начал выпивать лишнего. Вера встречала его раз-другой на улице, в транспорте. Лен, как правило, был подшофе, однако галантен и, несмотря на то, что потерял прежний лоск, умудрялся выглядеть элегантным. Отрадненцы проявлялись совсем изредка суетными письмами. И только Шергин с регулярностью три-четыре раза в год разрождался длиннющими посланиями. Он называл это «поговорить за жизнь с теми, кто поймет». Он, бродяга по натуре, даже обзаведясь семьей, не сидел на месте. Совершенно неожиданно мог заявиться к Даршиным в самое непредсказуемое время – с поезда из Красноярска, из Риги, с Черного или Белого моря. Щедро одаривал своими этюдами, эстампами, восхищенным «даршенятам» вручал роскошные наборы красок, кисти, резцы и прочие принадлежности для художества. Иногда Даршиным приносили телеграммы:
«Такого-то во столько-то пополуночи буду проезжать Пензу. Стоянка двадцать минут». И они ставили будильник на заполуночный час, вызывали такси и мчались к поезду.
Белое море было местом молитвенного преклонения Шергина. Ещё на третьем курсе Училища они с Леном «ходили в Беломорье» – пешком, на попутном транспорте, без денег, с одними этюдниками. С тех пор, как только жизнь начинала казаться Шергину невмоготу, он бросал все свои дела и уезжал к холодным волнам, бьющимся о прибрежные валуны.
После института дипломированный Шергин поселился с женой, учительницей русского языка и литературы в деревне, в школьной квартире. Работу нашёл в районном городке – в пятнадцати километрах от дома. Художников на весь город было всего двое – кроме него ещё выпускница Витебского художественно-графического училища.
Свою мастерскую в подвале Дома культуры они убирали сами, сами топили печку, доставали материалы для работы. Зарплату им положили по 150 рублей.
И вот каждое утро с рабочим автобусом добирался Шергин к восьми часам до своей мастерской, а к шести вечера возвращался домой. А дома ни занавесок, ни одежки-обувки по сезону. В ведре обливном для питьевой воды – дырка, пластилином залепленная. В сельмаге только хлеб, спички да мыло можно купить, всё прочее – вези из города. Туда и обратно тридцать километров. Чтобы сэкономить на билетах, приобрел Борька по случаю с рук бэушный велосипед «Турист» и от снега до снега ежедневно крутил педали, пока «коня» его не украли. Хочешь-не хочешь, а задумаешься, как жить. Соблазнился было северными надбавками, поехал в Красноярск, да скоро сбежал оттуда: с семьёй на севере и с надбавками не выдюжить.
«Много я поколесил по стране. Но когда сел на самолет в Красноярске и через четыре часа был в Москве, то контраст между сибирскими и московскими магазинами схватил за горло. Трудно, конечно, везде сделать одинаково, но не до такой же степени! Поделили страну на столичных людей и провинциальное быдло, а кто кого кормит?!» – писал он Даршиным вскоре по возвращении в свою белорусскую деревню.
Думал Шергин, ломал голову, и надумал организовать в райцентре детскую художественную школу. При том же РДК отвели ему просторную, довольно светлую комнату.
Даже ремонт обещали сделать посильный – побелить там, покрасить. Но вышло по пословице об обещанном: три года Шергин ждать не захотел – вдвоём с напарницей белили и красили. Детей в школу записалось с избытком – чуть не втрое больше, чем ожидал. И пришлось ему с «ненаглядной» агитацией распрощаться – с головой ушёл в детское творчество. Да и надоело уже мазать серп и молот. Хотя в душе был Борька благодарен наглядке – помогла выжить в студенческие годы, да и позже кормила.
С новой работой хоть и терял он в зарплате, зато приобретал в душе.
Но газеты, радио, телевидение сеяли смуту.
«Только душа окрылится, подпрыгнет, глянешь вокруг и снова крылышки увядают: стонут все кругом, ноют, суетятся. Друзья с разных концов Союза жалятся – что из Оренбурга, что из Челябинска, что из самой Москвы… И не понять, чего стонут?! Взять меня, – как только жена родила сына, дали нам новое жилье – три комнаты с паровым отоплением от школьной котельни. При доме – сад, колодец у порога. Одну комнату под мастерскую отвёл – оборудовал стеллажами, сделал подсветку. Живи – не хочу! У нас даже пёс завелся. Алкаши хотели с псины шкуру содрать, а я за пузырь водки его выкупил. Оказалось – эрдель-терьер по кличке Лорд. Забит, замучен, грязен и нечёсан был до невероятности. Но потихоньку отчистили, он и душой своей собачьей отошёл».
Вобщем, год за годом – жизнь как по накатанным рельсам покатилась. Дома – хозяйство, мастерская; три дня в городе занятия. Бывает, припозднится Шергин на работе, так в студии переночует – специально для этого раскладушку купил. А каждое лето жену с малышом к её родителям отправляет, а сам – странствовать.
«От Белого моря прошёл по Карелии до Питера. Наконец-то и до него добрался! В первый раз пять дней и ночей бессонных провёл в северной столице. Восторгом наполнился. Жаль только, что в Карелии потерял из-за дождей целую неделю: не писал, так как забыл зонт. Да ещё пограничники сильно надоедали – раз по пять-шесть за день требовали предъявить документы, пока в сельсоветских территориях, где мы писали, к нам не попривыкли. Опасения жителей имели основания: до границы всего тридцать километров, а в последнее время участились случаи перехода её различными бичами, мелкими уголовниками и прочей шушерой».
Кроме поездок за Сирин-птицей, за сказкой, не упускал Борька случая поучаствовать во всевозможных выставках, конкурсах:
«Два плаката отвез в Москву на противопожарный конкурс. Два отдал для минской выставки «Плакат в борьбе за мир». Два отослал в ФРГ»
По возможности старался он попасть и на открытие. Так что для семьи оставалось у Шергина не слишком много времени. Зато Лауреатом и Дипломантом чего только он не стал в те годы! Центральное телевидение на весь Союз транслировало фильм о белорусском художнике Борисе Шергине, о его школе, и даже Лорду в кадре нашлось место.
До Белой Руси перестроечная волна и демократические потрясения не сразу докатились – как-никак, эпицентр был в Москве. Зато Чернобыль ждать себя не заставил. Начали болеть все поголовно. Боткина косила и детей, и взрослых, даже больницы отказывались принимать людей – не справлялись. А вскоре начался и всеобщий раздрай по образцу российского.
Шергин во всякие фронты не кидался.
«Провозглашают одно – потом творят нечто другое. Начальную стадию вижу ясно, а пытался заглянуть дальше – туман. От Президента до Никиты Михалкова все умны и талантливы. И все врут».
На их фоне Борька с себя уже половину грехов снял. Думалось:
«Если бы мы были умнее, не задним умом, дальновиднее, меньше эмоций выплёскивали, то больше бы сил и веры осталось на дело».
Сам он из последних средств тянулся, но персональную выставку в Минске сделал. Выставил около двухсот работ. Родители, детей которых он учил, помогали доставать по дешёвке стекло, картон, сделать рамы, зажимы… Как всегда, как испокон веков на Руси водилось, подняли дело общими силами, помочью. Иначе этого мероприятия не огоревал бы Шергин. И так влез в долги на полтыщи баксов в надежде, что горотдел культуры закупит, как обещал, часть работ. В итоге ничего так и не купили, и только две частных конторы разорились на двести «зелёных». Но главное, что увидел Шергин – чего не успел сделать, чего не сумел, и что делать дальше.
Чуть расплатился за первую выставку – устроил вторую – «Учитель – ученик», посвятив её своим пензенским и минским учителям и дзержинским ученикам. Часть работ с этой выставки ушла в Голландию. Насытившиеся новациями и «измами» западные ценители изобразительного искусства и даже обыватели обратились к незамутнённому источнику детского творчества. Скупщики сгребали в России работы юных художников навалом и составляли на реализации капиталы. И понял Шергин, что в быстро меняющихся условиях жизни надо не просто бегать, но и ломать себя.
«У вас в Питере Всесоюзная. Достаньте два каталога, так как там мой плакат. Издал четыре листа в Минске, один – в Москве. Если где увидите, купите на мою долю, потому что авторских экземпляров они теперь не высылают: дескать, скажите спасибо, что напечатали. Называется «Моё – наше». Я теперь в Дзержинске заперт лет на 25 – из-за кооператива. Утешаюсь: народ вокруг живёт по-разному; кто хотел бы купить мои картины – так же, как и я. А цены на материалы – краски, холсты, кисти – таковы, что зашкаливают за среднюю зарплату (тюбик краски – 3-5 долларов), и уже появляются в галереях работы, где рамы дороже полотна. Мужикам жрать нечего и несут в продажу: лишь бы было чем продолжить писать. Идёт ориентир на Запад. Наловчились писать «голландские», «французские», «итальянские» пейзажики. Да так лихо – будто с натуры. А делаются они с фотоальбомов. Рынок у меня в голове фиксируется как бардак. Суета на работе, командировки, семинары, на которых абсолютно ничего толкового, кроме буйной говорильни. Везде говорильня. Мужики в бане (!!) – о политике. Бабы в очередях изматюгались все, издёргались. Молодёжи – тела и побольше. Любого: фото, рисованного, кино, живого. И тряпок, чтоб иногда его прикрывать. В пром-хозмагах – тишина. Мясо, масло, молоко, хлеб есть пока, слава Богу и крестьянину нашему, вконец затурканному и замордованному. А вот что касается башмаков, носков – в Красной книге искать надо. Сахар, мыло – по талонам. Вещи, которые вчера везде продавались, – по паспорту. Ну а всё остальное – дефицитное! – по блату. И понимаю, что зря всё это пропускаю через сердце: у меня ведь с Училищных времен кардионевроз, отчего и в армию не брали. Порадуешься – мотор к вечеру взвоет, не спишь ночь, утром злой, налетишь на кого-нибудь – опять, уже от отрицательных эмоций. Футбол смотрю или на рыбалке поймал большую рыбу или сорвалась, – прихватывает.
Чернобыль то тут, то там аукается. Зона потихоньку растёт и размножается. Облако где-нибудь подождит среди чистого поля, и уже, глядишь, людей эвакуируют. Рак косит, щитовидка душит и молодых и старых. Страсти кипят. Народный фронт, выборы, Литва рядом, президент, бюрократы и чиновники. Народ ударился в нумизматику: кто больше каких монет соберёт. Для меня всегда было загадкой, как Россия выстояла в Гражданскую войну. И сейчас ещё не до конца всё ясно. Но, боюсь, как бы по старому кругу мы 1918 – 21 годы проходить не начали.
Последние годы я жил заботами школы. Ничего, кроме долгов (от картинок до долларов). Ездили в Литву, в Вильнюс на Пушкинский фестиваль. Получили там Гран-при. Посмотрели, как живут литовцы. Европа. На следующий год есть приглашение во Владимир и Францию. Хуже всего выколачивать деньги у чиновников, да ещё в валюте. Мы выиграли опять поездку в Македонию, и началось топтанье по кабинетам: к маю нужно 1000 зелёных. А у меня после лицезерения сидящих в больших кабинетах – ну просто полная апатия. Иногда хочется подлеца назвать подлецом, но то ли возраст, то ли кишка тонка: всё время пересекаются пути, и у всех связи, связи, связи. И от этого ещё противнее жить.
Ну, ладно, разнылся. Из хорошего – люблю смотреть, как рисует малышня: никакой лажни, одни чувства, а красиво! В Библейском саду на холмах Иерусалима посадили три дерева в честь наших учеников. Это финальная точка нашей работы. Что дальше? Мы – это я и Наталия Николаевна, коллектив из двух человек, двигающийся по пути без грызни и подсидок. За пять лет получили 260 дипломов, медалей и т. д.
А от вас вот уже почти год, как ни строчки. Тошно среди всеобщего словоблудия без вестей от старых друзей. Теперешние знакомые – это просто знакомые.
Иногда сварганю какой-нибудь пейзажик «для дурака» с лебедями, чайками, мостками, и осень, осень, осень кругом. Дурак купит, я этими деньгами заткну какую-нибудь срочную дырку. И опять тишина. Внутренний голос зудит: «А на фига кому нужна твоя живопись!»
На днях хотел порадовать даршенят посылочкой к празднику. Пошёл на почту, а там список висит. 30 наименований запрещённых, причём под каждым пунктом, если расшифровать, ещё сотни. Импортные товары и детская одежда под запретом. Есть, правда, исключения – дома престарелых, Сов. Армия, детдома. Экономическая война эта, думаю, дело вредное для всей нашей дружбы, о которой столько кричат.
Недавно сгонял в Москву. Кошмар. Очередь за кукурузными палочками, рядом – за газетами. Соцреализм. Всё за баксы – от туалета до газировки. На Арбате стало гораздо малолюдней, в картинах много понту и коньюнктуры, в словесах – трёпу и той же коньюнктуры. Более-менее серьёзные картины в салоне по сумасшедшим ценам – от 5000 до 10000 в расчёте на богатого дядю из-за бугра. Резко выпрыгнули палех, холуй, мстера: очень симпатичные штуки делают, особенно матрешёк – с элементами иконы, тонкое письмо. Я аж зауважал эту игрушку, которая меня прежде отталкивала своей глуповатостью и аляповатостью. Но цены! Год пахать надо на их семейство из дюжины.
На Крымской, в Доме художника осознал, что на фоне очень маститых и титулованных очень даже неплохо выгляжу, т. к. 80 % работают не со своей головой, а с западными каталогами. Отсюда ощущение, что всё это я уже видел. Но моим основным занятием нынче стало выколачивание денег. Чтобы поехать в Македонию, ходил по кабинетам два месяца. Неделю работали с детьми в г. Битола – на границе с Грецией, Болгарией и Албанией. 125 детей из 15 стран. Один мой ученик получил гостевую визу – это значит, надо снова ходить с протянутой рукой. На выставке в Минске другой ученик получил президентскую стипендию в 100 долларов. Сделали выставки в Дзержинске, Липецке – «10 лет Чернобылю». Уже сообщили, что одна поездка в Германию – приз – наша. Отослали работы в Словению. Поскольку у нас нет валюты, плату берут детскими работами. 12 штук отдал в Голландию в детскую галерею. Взамен прислали фотоаппарат, краски для керамики, резцы по линолеуму, чай-кофе-сладости и денег 6000000. Запад теперь скупает душу, а её больше всего в детских работах. Галереи оформляют их в приличные рамы, паспарту и продают в Японию, США по 1500 – 50000 зелёных. Я сторонник того, чтоб эти работы висели на наших стенах и просвещали чиновников. Дело почти безнадёжное. Но хочу, чтоб глаз тыкался не в зелёно-голубые стены.
Был в Питере, возил сына. Вроде город-музей, а нищета на каждом углу. Голодающее Поволжье сплошь по России. У народа сейчас одна идея – лишь бы как-нибудь выжить и ещё детям башмаки огоревать.
Удивительно, я в Пензе и прожил-то всего восемь лет, но детская память цепкая, а после бесконечных перемещений с матерью в малолетстве по стране, я именно этот город считаю городом моего детства. У меня на стенах мастерской висят четыре куска «родины» – четыре этюда, сделанных в Пензе – с четырёх сторон. Будешь проходить мимо Училища – поклонись от меня этому зданию. Лучших лет у меня в жизни не было, и уже вряд ли будут. Жалею страшно, что не приехал на 100-летие.
Затеяли ремонт школы. Фирма наклеила обои – они отвалились вместе со штукатуркой. Наняли вторую – уже год тянутся работы. Занятия ведём на квартирах у учеников. Их мамы по очереди освобождают комнаты для занятий, дети собираются по 7 – 8 человек, а мы бегаем от одной группы к другой. Надо было бы всё бросить на произвол судьбы. Но получили приглашение в Вильнюс. Я последний раз был в Прибалтике в 90-м. Потом в Бресте – конкурс. Потом побывал в Софии – 4 дня – очень хороший город, но бардак, как и в Москве. В прошлом году получили более 30 дипломов за бугром – это и спасает при проверках. Кстати, почти все мои дети, из тех, что хотели, поступили в училища.
И уже летом забрался в глушь – писал этюды и пил самогон. На Немане с палаткой, подводным ружьём и спиннингом. Лепота!
У нас очередной экономический обвал. Свои картинки я продавать не умею. Другие брались – продавали в Голландии, Германии, Польше, с чего мне доставались лишь %».
Шергинские письма непосредственно и точно отражали жизнь. В них не было коньюнктуры, рекламной похвалебной заданности. Он не был настроен настолько мрачно, чтобы глядеть на белый свет через чёрные очки, и не был примитивен, чтоб глядеть сквозь розовые.
«Через неделю снова в Питер, повезу коллекцию детских работ в Русский музей. Недавно сделал свою выставку в Минске – удовлетворения никакого. Не знаю зачем, но снова буду покупать холст и краски. Уеду на дачу. Я там половину участка засеял травой. Место красивое, хорошо писать этюды и вечерять у костра.
Получил грант от Минкульта. Купил компьютер в школу. Издал книгу – «Графика», в том же русле – «Учитель – ученик». Галерея Черниной оплатила поездку в Амстердам: визы, проезд, питание, билеты в музей. А они там: 35 Е – Ван Гога, 30 – Рейксмузеум (типа нашего Эрмитажа), 15 – Стайдликмузеум (современное искусство). Заметьте, услуги в красном квартале от 40 до 100 евриков. Город контрастов.
Не хватало языка и денег. Обошёл десятка три галерей. По вечерам ходил по улицам – занавесок нет – и рассматривал их интерьер. 2 – 4 – 7 – 11 картинок висят в каждой комнате. За бугром галерейщики борются за стены – некуда вешать.
Сейчас пригласившая нас галерея подбросила сыну 500 долларов – его работы чем-то им приглянулись – на учёбу. Он выбрал архитектурный. А я боюсь, случись что со мной – его учёбе кранты. Мы в советские времена могли хоть как-то продираться к цели. Я за полтора десятка лет учёбы даже пачку сигарет никому не подарил. Да и взять никому и в голову бы не пришло.
Спасибо за присланную книжку. Я такие вещи воспринимаю как ростки душ, прорвавшиеся сквозь дерьмо на громадной помойке развала Великой Империи. Дал почитать здесь друзьям, им так понравилось, что они отксерили себе по штуке. Потом пьянел от Набокова, отрезвил Солженицын. Публицистика и телевизор мешают жить. Стараюсь не читать газет. Наконец взялся за Пушкина – решил одолеть все стихотворные тома, что у меня есть».
Редкие письма Шергина в пессимистической какофонии, доходящей порой до нот отчаяния, звучали смыслообразующими аккордами. Когда людей довели до края пропасти и начали сталкивать вниз, одни падали, не сопротивляясь. Другие пытались цепляться за мельчайшие выступы, корни и пучки травы. Тем, кто не разбился при падении, не оставалось ничего иного, как только искать склон поположе да карабкаться опять наверх, на противоположную сторону ущелья, дабы поводыри остались без стада. Те же, кто успешно преодолевал за уступом уступ, начинали вновь осознавать свою силу, понимать, сколь неотступно следит за ними Божье око, что ниспосланные им испытания – кара за отступление от своего духовного совершенствования. Поэтому, падая в пропасть или поднимаясь в гору, должен помнить человек, что горя чужого не бывает. И всегда быть готовым протянуть руку всякому, до кого можно дотянуться.
* * *
Вчера моя подруга
Смотрела хоккей
И мне сказала: «Страшно
На скользком пятачке
Метаться двум командам
Двух несогласных стран.
Но обе знали: надо!
Так шла игра.
Т. П.
Играли наши и чехи. Впервые Вера болела за чужих. Сыграли вничью. Видимо, так было решено заранее. Решено наверху. Если не властью людей, то промыслом свыше. Больше никогда она хоккей не смотрела.
В марте того же 68-го года в Пензу приехали чехи. Делегация писателей и художников по культурному обмену. Делегаты говорили по-немецки, поэтому к ним прикрепили Лозового как немецкоговорящего. Алла и Вера старались, сколько возможно, находиться рядом. Вслушивались, ловили каждое слово. Вера улавливала лишь некоторые слова. Десять лет учили иностранному языку в школе и в Училище, пятёрки ставили, а что толку?! Больше от матери научилась. Та любила подначивать дочь, дескать, учишь, учишь немецкий-то, а говорить не умеешь. Но у самой запас слов был только для бытового общения: веник да ножик, дай – принеси. Вера от обиды язык учила сама, даже немецкую литературную газету выписывала, но живая речь слуху давалась туго. Алла кое-что понимала. Дома у Лозовых, когда она была маленькой, неделю говорили на немецком, другую – на русском, третью – по-английски камушки во рту перекатывали. Но ничего из того, о чём подружки хотели услышать, взрослыми не говорилось. Либо сознательно избегали они скользкой темы, либо при посторонних – при девочках – говорить не хотели. Подарили Лозовому несколько книжек на чешском и картину, над которой Вера долго ломала голову: масляными красками написанный город, точнее, городской сквер, а вместо травы газетные клочки вклеены, на крышах домов за сквером – кирпичная крошка, вместо дымов заводских и ручья – ленты фольги. Так и уехали чехи, не прояснив событий, недавно захлестнувших их маленькую, по российским меркам, страну, и больно отозвавшихся в далеком от Праги среднерусском городе Пензе. Потихоньку душевное неуютство отошло, поумерилось любопытство. Взволновавшие многих в России события «пражской весны» стали памятью.
В те годы Вера ещё не замечала, что годы жизни в России отсчитываются зимами. Зиму пережил – считай, твой год. Пока ты молод, здоров, холода переносятся легко. На бегу, вприпрыжку. Даже если ты не в шубе и валенках, а в ботиках «прощай молодость» и пальтеце «на рыбьем меху». Да и когда годы под горку покатились, тут заболело, там закололо, молись Богу, чтоб не было войны или голода. Обойдется без этого, так любые лютые морозы пересидишь на печи либо в душегрейке и чунях около электрообогревателя.
Хотя в России неурожай – беда и урожай – беда. Богато хлеба уродиться, так убрать не успеют до дождей осенних или на токах погноят. Как покойная Верина бабушка Серафима Кузьминична приговаривала: «Такая ноне планида, а искони допрежь подобного не водилось, – перекрестит рот меленько и вкось бросит, – Допрежь другой всякой заразы сверх человеческих сил было».
Поэтому не суть важно, что не считала ещё Вера года свои зимами, да только главные в её судьбе события, кроме разве что раннего детства кущёвского, сплошь на зиму падали. Вот и семнадцатая её зима куролесила метелями, лютовала морозами. В общежитии на подоконнике вода в чайнике под утро замерзала, хотя котельную Сёмка Похвистнев и сменщик его скульптор Ярик топили исправно.
Много тогда в сторожах и истопниках творческой молодежи пробавлялось. Мода эта вышла из необходимости: позарез была нужна душе свобода, пусть даже такая «катакомбная», как у первохристиан. Ну и прокормиться, не шибко напрягаясь, было не лишним. Вот и Сёмка истопничал, пил водку с забредавшими погреться приятелями, подвыпив, читал им свои тягучие, полные космической тоски вирши.
Когда разогретая компания шумно вываливалась на улицу, напустив клубов морозного воздуха, тут же оседавшего конденсатом на дверную пятку, ведущие вверх деревянные шаткие ступеньки, на ворох чёрного, поблёскивающего боками антрацита, наваленного сбоку от двери, Семён совковой лопатой шуровал в топке, подкидывал в пышущее жаром сопло ещё угольку, проверял температуру, давление и заваливался на продавленную раскладушку.
Поутру обитатели отапливаемого им общежития выскакивали из-под казённых ватных одеял – словно в реку бросались после Ильина дня, когда, по преданию, олень в воду чего-то там такого наделал. Накутав на себя какую придётся одежонку, гремя чайниками, бежали на общую кухню. Четыре четырехкомфорочные плиты гудели во всю, уже успев обогреть кухонный закуток удушливым, угарным теплом.
После кружки чёрного густого горячего кофе и бутерброда с неизменной «Любительской» колбасой можно было жить дальше – идти в Училище, в библиотеку, на утренний сеанс в ближайшую киношку. Хозяйственные студенты затевали щи – по коридору начинал волнами гулять сладковатый дух гусятины, привезённой из родительских закромов, квашеной капусты и жареного лука. Настоящим знатоком, шеф-поваром возвышался над суетящимися у плит девчонками Ярик. Он пришёл в Училище, отслужив три года действительной в химчасти, базировавшейся где-то в Западно-Белорусских лесах, и по всем понятиям считался взрослым человеком. Высмотрев уже несколько дней мотавшуюся за форточкой какой-нибудь девчоночьей комнаты авоську с мясом, он предлагал хозяйке сварганить что-нибудь покушать. Как правило, той оказывалось лень или некогда, и, к великому удовольствию обитательниц «зажиточной» комнаты, Ярик приступал к делу. Готовил он замечательно вкусные щи, борщ или суп, которые ели все вместе, и отчасти оттого многие девчонки мечтали заиметь Ярика (такого, как Ярик) в мужья. Однако он, к огорчению повального большинства из них, оказался однолюбом, а «таких, как он» на обозримом пространстве общежития не просматривалось.
Ярик содержал себя сам, потому и истопничал посменно с Сёмой, брал заказы на оформление стендов для различных маленьких контор, где трудно было скрыть «подснежника»-художника в штате работников. В далеком Ала-Тау была у него мать. Здесь, в Училище – Лена. Тихая, неприметная студентка живописного отделения, с последнего, как и Ярик, курса. Общежитские девчонки утешали себя, дескать, не пара она Ярику. Но он не раз заявлял, что как только получат они с Леной дипломы, увезёт он её в Синегорье к матери. Там – красотища! Пейзажи потрясающие!
Наверно, так все и было бы.
Только впервой ли прокатываться по человеческим судьбам железной махине государства, движимого властными страстями, деньгами, амбициями сидящих у руля?!
1 сентября 1968 года, съехавшись со всех концов России, студенты обсуждали чехословацкие события. Не очень верили газетным версиям, ширились, шелестели слухи – о расстрелах, о танках, давивших безоружных людей, как и десять лет назад в Венгрии. Было страшно от того, что если ты посмеешь что-то сделать не так, как от тебя требуется, тебя тоже, не задумываясь, раздавят. И одновременно хотелось «что-то сделать». Из протеста, из несогласия со сложившимся положением дел. «Что?» – не представлял никто.
Дождливой сентябрьской ночью, в какие даже бродячие собаки забиваются спать в подворотни, Ярик, Семён и Лена расклеили на зданиях в центре города листовки, где обвиняли свою страну в фашизме. Наверно, они чувствовали себя героями-краснодонцами. Конечно, они не знали подоплёки недавних событий, да и кто в этих подоплёках может разобраться объективно, особенно когда пролилась кровь. Они просто «хоть что-то сделали». Их никто не видел. О том, что по ночам они печатали в котельной листовки – самым примитивным способом – через трафарет, знали несколько Яриковых друзей, Шергин. И пусть рано утром дворники соскоблили листовки, пусть по городу всего лишь прошелестел невнятный слух об этом инциденте, ребята чувствовали себя причастными к чему-то большому, героическому.
Появилась работа у гебистов. Приходили и в Училище, беседовали в группах, приватно. Тщетно.
На ребят донёс два месяца спустя староста Яриковой группы – благочинный и законопослушный внештатный осведомитель по совместительству. До него дошли лишь слухи, но он охотно поделился ими с «куратором». Остальное было делом техники.
Перед новогодними праздниками в Училище объявили: за антисоветский поступок… исключить. Ярик и Лена в одночасье оказались на улице. Несколько дней они мотались по Пензе в поисках жилья, но зимой снять угол непросто. Все стараются обзавестись постояльцами по осени. Сёму исключать было дальше некуда, поэтому после «промывки мозгов» его оставили под наблюдением, настрого предупредив о нежелательности контактов с «подельщиками».
А куда было деваться бездомным изгоям? Продремав на последнем сеансе вырванные у злосчастья полтора часа за сорок копеек – два билета по двадцать – они брели к котельной, если дежурил Семён, или к нему домой.
На третий день им почти повезло: обходя по второму кругу пензенский Монмартр – прилегающие к Училищу кварталы частных домишек, почти отчаявшись, они сели на ступеньки кривобокого крылечка, выходящие прямо на проезжую часть. Проходившей мимо женщине они показались похожими на бесприютных озябших воробьев.
– Девушке что, плохо, что ль? – спросила она.
– Нет, просто устала. Мы квартиру ищем, не знаете ли, кто пускает? – поспешил объяснить Ярик.
Женщина молча оглядела их и жестом позвала следовать за ней.
Комната оказалась совсем крохотной – два на два метра, без окна. Дверь заменяла ситцевая серенькая шторка. Кровать, стол и табуретка – вся мебель. Они порадовались и этому. Договорились, что поутру принесут вещи «со старой квартиры» – в ногах Сёминой раскладушки лежал полупустой Яриков брезентовый рюкзак, на нём хозяйственная сумка с бельишком Лены. Потемну отправились в котельную.
Обрадованный Сёма не преминул отметить новоселье друзей. Он сбегал с облегченным сердцем в круглосуточный магазин и принёс банку вермута, полкаталки колбасы по два сорок, полбуханки чёрного хлеба.
Спать улеглись далеко за полночь. Лене по-джентльменски уступили раскладушку, парни настелили себе, что довелось, на досках за котлом.
Ночью котёл взорвался. Погибли все трое.
Убитые горем, растерянные и пока не до конца ещё всё осознавшие родители увезли тело Лены в деревню.
Вера и Алла проводили в последний путь Сёму. Народу было совсем мало – несколько соседок, дамочка, кажется, из поликлиники, где работала Сёмина мать, суетилась с нашатырем и таблетками, четверо парней, несших закрытый гроб до перевозки и закопавших яму, да сутулый мужичок с чёрным, из двухдюймовой трубы сваренным крестом.
Ярика закопали на новом загородном кладбище – на участке, отведённом для тех, кого хоронят за счёт государства. Не ставят на тех могилах памятников – довольствуются дощечкой с номером.
Весной, когда растаял снег, Борька Шергин с двумя Яриковыми однокурсниками добрались на попутках до кладбища, расспросили сторожа, где похоронили сгоревшего на новогодней неделе в котельной парня. Тот показал им бугорок. Борька спросил лопату, дошёл до ближайшей лесополосы, выкопал там облюбованный куст рябины и прикопал в суглинок. Если сторож не ошибся, так на Яриковой могиле – рябина стоит. Теперь, должно быть, уже большая.
* * *
Не было ни земли ни неба. Снежная круговерть. Будто в огромном котле кипела, пенилась, била струями белая масса, обволакивая и ошпаривая старушку Пензу. Областной город средней руки – 500 тысяч жителей – лежал на всхолмиях посредине огромной Страны. Декабрь нагнал страху на обывателей. После трескучих, за тридцать зашкаливающих морозов, обрушил на тихие пензенские кварталы шальные снега. Без нужды никто носа на улицу не высовывал. Выкопали из кладовок забытые, на всякий случай припрятанные дедовские валенки. Древние старухи припоминали, что во времена их детства все зимы были такими холодными, не то, что ныне.
«Глобальное потепление, – говорят, – а тут прорвалось откуда-то», – кутаясь в пуховый платок, думала Вера Андреевна. В квартире было почти так же холодно, как и на улице. Не выдержав нагрузки, в отапливающей микрорайон котельной полопались трубы. Тепловики успели подключиться к центральной системе, не заморозили батареи. Но чугунные рёбра их были как парное молоко. Жидкие волны тепла выхлёстывались невесть в какие щели прорывавшимся ветром – с осени законопатила она оконные проёмы, а с наступлением морозов на балконную дверь навесила верблюжье одеяло. Оказалось, этого мало. Толстой пензенской вязки пуховый платок согревал только плечи, а от ног по телу пробирался ознобец. «Клин клином надо вышибать», – решила вдруг Вера Андреевна. Надела вторые гамаши, мутоновую поношенную шубейку, всунула ноги в валенки. Постояла в прихожей, подумала и нахлобучила на голову ушанку Кирилла. С тех пор, как его не стало – ровно год – она так и не решилась убрать её с полки. Или не хотела. Тут же, на вешалке, висела его дублёнка.
Она не успела открыть подъездную дверь, как к ней рванулись холодные белые щупальца. «Клин клином», – снова мелькнуло в голове.
Вера Андреевна не знала, куда и зачем идёт. Просто шла. И думала о Кирилле. Сегодня день его памяти, и нет никакой возможности пойти на могилу, поговорить, поплакать. Потому что не только кладбище, но и привратную часовенку завалило, наверное, по самую маковку. Она шла и думала о том, как в многолюдный их дом – именно домом была крупноблочная трехкомнатная «хрущёвка» – прокралась тишина. Неожиданно быстро выросли дети и ушли в самостоятельную, взрослую жизнь. И не собираются уже шумные компании, не затеваются горячие споры о жизни, искусстве, политике. Спорить стало некому. Вслед за крушением Страны – чуть раньше или чуть позже Даршина – ушли из жизни почти все его друзья – пензенская журналистская когорта советской эпохи.
Как одинокое дерево, крепящееся корнями в земных расщелинах каменистого обрыва, Вера Андреевна всем своим существом ощутила дыхание пустоты. И стало совсем не важно, куда и зачем идти – одной по пустынному полотнищу вьюжной вечерней улицы.
Неожиданно из снежных нитей соткалась перед ней человеческая фигура. Низкорослый, кряжистый кавказец в кепке-аэродроме. Только наполовину человек, наполовину – снежное существо.
– Жэнщина, купи цветы, – прохрипел простуженно. Из-за пазухи его пупырчатой, набитой снегом куртки вынырнул кулёк. Короткие волосатые пальцы быстро и бережно раздвинули смятые края газеты, и живые кроваво-красные головки гвоздик вынырнули из темноты в белый кипящий мир. – Купи, а? Совсем дёшево отдам, за все давай двадцать рублей и счастливый будэшь.
Явление смуглого усатого южанина с цветами в этом снежном крошеве казалось нереальным, мистическим действом. Вера Андреевна машинально зачерпнула из кармана горсть мелочи и смятую десятку и высыпала в протянутую корявую ладонь. Продавец гвоздик, не пересчитывая, ссыпал их себе за пазуху, сунул ей бумажный кулек, и так же неожиданно растворился в белой мгле. Вера Андреевна развернула газету. Ветер выхватил её из озябших рук, и она тоже исчезла. Прижимая к груди хрупкие стебельки, Вера Андреевна двинулась дальше.
Она забыла о кавказце, не замечала секущих лицо снежных струй, мысли её были далеко-далеко: там месяц май исходил соловьиными руладами, истошно горланили лягушки, кукушки обещали долгую и счастливую жизнь и возлюбленный осыпал её влажными от дождя гроздьями черемухи…
Как ото сна, очнулась она от воспоминаний – сквозь снежную муть перед ней темнела громада Дома культуры железнодорожников. «И у зданий, как у людей, своя судьба. Вот и в этом костёле послужить успели недолго. После революции реквизировали для культурных нужд трудящихся. Теперь, – говорят, – хотят обустроить здесь церковь. Всё по кругу, по кругу…»
Она резко развернулась спиной к зданию, пересекла дорогу и оказалась перед подъездом старого ликуновского дома. Сюда в сорок втором, после долгого пути из осаждённого фашистами, Воронежа Ирина Александровна принесла своего умирающего сына. Здесь прошли детство и юность Кирилла. Вера Андреевна подошла вплотную к дому. Во втором этаже светились окна – когда-то их окна… Она осторожно нажала на деревянную филёнчатую дверь, как и сто лет назад выходившую прямо на тротуар. Дверь подалась. Тусклая электрическая лампочка освещала лестничный пролёт. Ступеньки давно не ведали скребка и даже веника. Она поднялась на одну ступеньку, вторую, третью. Доска под ногой противно крякнула. Вера Андреевна вздрогнула, замерла. Гвоздики просыпались на грязные заплёванные ступеньки.
Сердце то трепетало, билось часто-часто, то замирало. Осторожно, чтобы не наступить на цветы, Вера Андреевна сошла вниз, и снежная белая мгла поглотила её.
* * *
А в другом времени, за белой мглой, вершилась другая жизнь, и там Она шла в Большой Дом. Порывистый мокрый ветер выхлёстывал улицы. Длинная чёрная юбка облепляла ноги, мешая идти. Коротенькая жакетка почти не защищала от порывов ветра. Скрестив руки под грудью, Она старалась поглубже засунуть их в рукава. Как можно ниже наклоняла голову – почти ложилась на плотные валы воздуха.
Каменный каньон Главного проспекта освещался лишь заревом далекого пожара, отблески которого дробились в уцелевших склянках окон верхних этажей.
Прямо на проезжей части горел костёр, пожирая остатки забора и широкого кресла. Во втором кресле, стоящем наготове, сидел матрос. Кресло было богатое, обшитое бордовым бархатом. Костёр высвечивал полукруг на мостовой, часть тротуара, оранжевыми языками тянулся вверх вдоль серой стены ближайшего здания. Огонь бросал кровавые пятна на лица стоящих вокруг в сером и чёрном.
– Куда торопится барышня? – из круга качнулось серое звено. На худом небритом лице солдата красным блеснули глаза.
Сунув руку за пазуху, Она вытянула из специально пришитого к подкладке жакетки кармана вчетверо сложенный листок. Солдат взял его и повернулся спиной к огню. Не видно стало лица. Только тёмная фигура и трепещущий на ветру белый клочок бумаги. Удостоверение, выданное Градсоветом, было в полном порядке, при печати.
– Проходи, товарищ барышня! – красный отсвет огня снова взыграл в глазах проверявшего документ.
Она свернула листок, на ощупь сунула во внутренний карман. Руки – от холода, наверно, – слушались плохо. Снова упрятав их в рукава, двинулась дальше. Встретился ночной патруль, но на неё не обратили внимания.
У белого привратного столба ограды, освещённой горящими в Доме окнами – часовой. Уворачиваясь от хлёстких оплеух ветра, он старался подставить ему спину. Но ветер неожиданно налетал с другой стороны. Часовой – бледный, безусый ещё, мельком глянул на удостоверение, качнул винтовкой: «Проходи».
В коридоре было тепло и даже уютно. Уют создавал неяркий свет лампионов. Чувствовалось, что рядом идёт работа: доносились голоса, стуки, хлопанье дверей. Но анфилада коридора была пуста.
По широкой мраморной лестнице она поднялась во второй этаж. Здесь опять пост – ещё раз проверили её документ. Румяный крепыш в плотно облегающей торс гимнастерке с портупеей, в галифе. От навощённых сапог его резко пахло гуталином. Запах этот смягчался застрявшим в лестничном проёме дымком хорошего табака.
Возвращая удостоверение, постовой молниеносно козырнул, и взгляд его сделался безразличным.
Она прошла коридором, не стучась, толкнула тяжёлую дверь и вошла. Стрекотал телетайп. Посреди комнаты, покачиваясь, стоял Феликс, перебирая тонкими пальцами бумажную полоску. Он взглянул на неё, но, наверное, не узнал. Ничего не сказал и даже не ответил на приветствие.
Они встречались несколько раз в прежней жизни – за несколько лет до прихода к власти Партии. Феликс учился в университете вместе с её возлюбленным. Даже тогда женщины не занимали сколько-нибудь заметного места в его жизни. Он сознательно посвятил себя Идее. Что-то вроде монашества в миру. Параллельно с ними, только на другом факультете, учился Вождь. Тогда его называли так в шутку. Веселый, рыжеватый и большеротый молодой человек, любитель пива и белошвеек.
Похожий на молодого ловкого медведя телеграфист сутулился над аппаратом. Феликс уткнулся в телетайпную ленту. Она не решилась сходу изложить приведшее её сюда дело, тем более что оно было сугубо конфиденциальным и касалось только Вождя. Теперь надо было ждать, когда её спросят. Пауза затягивалась, наплывало чувство неловкости.
И тут из боковой двери выбежал Вождь. Она, как и всякий раз прежде, удивилась его малорослости и подвижности. Рядом с сухопарым, сутулым Феликсом он выглядел коротышкой. Золотистая шевелюра, зрительно увеличивавшая его рост, поредела, наметив явственную проплешину от лба к темени. Взмахом руки Вождь остановил обратившегося к нему с каким-то вопросом Феликса, повернулся к ней. Быстрый взгляд больших серых глаз пронизал её насквозь; он словно прочёл все её мысли и быстро втянулся обратно – подобно языку хамелеона, схватившего добычу. Вождь узнал её. Наклонил голову набок, показав таким образом, что готов выслушать.
Она заговорила торопливо, сбивчиво. Дело было деликатное. Её смущало присутствие Феликса и телеграфиста. Вождь, уловив суть, не счёл нужным вникать в подробности.
– Минуточку, – прервал нетерпеливо. Как на пружине, крутнулся на месте и исчез за дверью, из которой только что выбежал.
Она стояла столбом с застрявшей в горле фразой. Феликс, видимо, тоже вспомнивший её, смотрел одновременно с сочувствием и укоризненно.
– Вот, возьмите, и вот… – возвратившийся столь же неожиданно Вождь совал ей в руку какой-то листок и несколько бумажных купюр. – По этому ордеру они получат вещи и продукты на Провиантских складах. Ну и деньги…
Она ждала совсем не этого. Она надеялась поговорить. Но… вышла в дверь, держа бумажки в растопыренных пальцах. Потом засунула их в нагрудный карман и заспешила к выходу. Большие круглые часы над дверью показывали половину восьмого.
Ветер снова взял её в оборот. Быстрыми семенящими шагами прошмыгнула мимо застывшего у ворот часового. «Тут недалеко. Направо, пересечь улицу, и в двух кварталах…» – успокаивала себя.
Старый трехэтажный кирпичный дом был когда-то доходным. Они снимали в нём комнату с Подругой. Боже, как невероятно давно это было! Какими юными, беззаботными и беспричинно весёлыми были они, курсистки. Объект неудержимого внимания студентов и молодых офицеров. И вот она – учительница Первой трудовой школы. Возлюбленный её, обаятельный и щеголеватый студент, ушедший добровольцем на фронт, по слухам, воюет где-то на Юге. Она даже не знает, за кого и с кем.
Подруга стала Подругой Вождя и с головой ушла в дела Партии. И с ней они не встречались несколько лет – шкраб и деятель наробраза. Возможно, прежние доверительные отношения стали основной препоной их общению. Именно ей Подруга в минуту откровения сказала, что не может иметь детей, а у Вождя есть сын. От простой работницы.
И вот этот мальчик, круглоголовый, рыжеватый и боль шеротый подросток, её ученик. Он уже неделю не посещает школу, да и вообще дисциплиной не отличается, много пропусков. А ведь это последний класс, впереди выдача аттестатов. Она пыталась поговорить с ним. «У нас давно нет даже хлеба, – сказал он, – и вот…» – он поднял ногу: ботинок ухмылялся пастью маленькой акулы. И тогда она решила пойти в Дом.
«Наверно, мальчику совсем не в чем ходить в школу… – думала она. – Конечно, Вождь безмерно занят. На его плечах Партия, разрушенный и голодный мир. Не хватит жизни уделить внимание каждому, даже если… – она пыталась оправдать Вождя. И все-таки подлый червячок недоумения и недовольства копошился в черепной коробке.
Многолюдная, крикливая прежде Банная, переименованная в Аллею Труда, казалась вымершей. Остановившись у заколоченного досками подъезда, она глянула вдоль улицы влево и вправо – ни души! Завернула за угол и по узкой чёрной лестнице, загаженной до осклизлости, начала подниматься наверх. Семечная шелуха противно шуршала и потрескивала под подошвами ботиков. «Идешь, как по скопищу муравьев, и под ногами лопаются их жирные брюшки», – подумалось ей.
Ручки на двери не было – вырвана «с мясом». Обеими руками потянула за липкую, изодранную дверную обшивку. Дверь подалась туго и плавно. Едкий пар, кислый капустный дух, спёртый запах скученного и неопрятного человеческого обиталища шибанул в лицо. На мгновение остановилось дыхание, сами собой закрылись глаза. А когда открыла их, увидела большую общую комнату – бывшее фойе, отгороженное от лестницы дощатой переборкой, – полную людей. Все заняты своими делами.
Костлявая старуха в грязном ситцевом фартуке и красной косынке, повязанной кончиками назад, колдует над керогазом; в левом углу у двери тюкает по подошве накинутого на лапку хромового сапога седой мужчина; из дверей, расположенных по периметру комнаты, выходят и уходят обратно женщины. Никто не обращает на нее внимания. Только бесштанный карапуз застыл в простенке с засунутым в ноздрю пальчиком и вытаращенными на неё глазами.
В середине комнаты на широкой лавке кипит стирка. Из ушата валит густой пар. «Это – мать», – почему-то решает она. Женщина разгибается над корытом. Заводит кулаки за спину, прогибается назад. Мокрое бледное лицо. Пряди выбившихся из-под платка волос налипли на лоб, щёки. Над прачкой вперехлёст на бельевую верёвку наброшено белье. «Стирает по подряду, – на госпиталь или на солдат», – догадывается она. Капли глухо шлёпаются с казенных простынь на расстеленную под ними мешковину. Женщина смотрит на нее. Во взгляде читается: «Господи, никак ещё что-то!».
Она молча протягивает женщине деньги и ордер. Та медленно отводит руки от поясницы, отирает их о бока юбки. Выражение лица её остается неизменным. Крупные капли пота стекают по щекам. Маленькая распаренная рука берёт протянутые бумажки. Ни слова. Только страшно усталый, безразличный ко всему взгляд. Учительница не решается заговорить. Она вдруг понимает, что чужая здесь, пришелица из другого мира – со своими ботиками, шляпкой, со своими заботами и думами. И так же понимает, что весь земной мир разбит на маленькие мирки, в которых сосуществовать возможно только подобным. «…Хлеб наш насущный даждь нам днесь…» – почему-то выплыла из тьмы памяти строка почти забытой молитвы.
Что ж, миссия выполнена. «Может быть, сын этой прачки и Вождя прорвет сферу сегодняшнего своего мирка и сумеет создать общий мир, где всем будет тепло и сытно, и все будут равны не только перед Богом», – думает она, спускаясь по лестнице. Скрипит конопляная и подсолнечная шелуха под подошвами.
Она не знает ещё, что её ученик, большеротый рыжеватый мальчик, уже прорвал сферу этого мира и теперь находится там, где все поистине равны…
Взвизгнула разболтанная входная дверь, и ветер тут же облапал её, – мокрый и неприятный.
Долго не прорастают корнями семена, упавшие в новые, чуждые почвы. Иные и прорастут, да не прирастают вовсе – остаются гонимыми ветром перекати-поле. К человеку применительно – гражданами мира. О них расскажут прошедшие такими же путями.
«Наш сын Дима 4,5 года прожил в Израиле, уехали они туда в 1992-м году. А в январе этого года перебрались в Канаду, в Торонто. Он – программист.
Не хочется мне покидать родину, но мой возраст и одиночество… За мной приедет сын. А мне хочется напоследок побывать в дорогой и любимой мной Пензе, где у меня с юности осталось много друзей…».
Ю. Ч., кандидат технических наук, из Москвы
Мы же ходим российскими разбитыми вдрызг дорогами, и мы знаем, что оставшимся довелось пережить смятённое десятилетие: унизиться до отчаяния и вновь подняться, растеплить в душах своих угасшую надежду. Увы, не на тех, в чьих руках власть кесарева, а на собственную силу духа, претерпевающего вековечно тяжкие испытания.
«Вот так, родненькие, грядет новый 33-й год, когда и травой не побрезгуешь. В колхозно-совхозной системе земля наполовину не пахана, сеять нечем, да и не на чем. Остается только «Авось», который, может быть, пронесёт. Потому крепче держитесь за землю, не поддавайтесь панике, ибо сильные духом побеждают»
Это утешение прочла Вера Андреевна в письме из деревни от старенькой своей мамы. Писано оно было в том же 92-м, когда бежал за границу от российского раскардаша её талантливый молодой племянник.
Что ж, наверно, и правда, стыдно прожить, не страдая и не радуясь, ибо это развивает дух.
Вместе с не потерянным в крушении своей страны народом Даршины карабкались из пропасти. Кирилл сорвался на половине склона.
Через полгода, когда облеглась земля на его могиле, Вера Андреевна поехала в ритуальную мастерскую заказать памятник.
В большом деревянном сарае стояла серая меловая пыль – пилили надгробную плиту. В углу, за сколоченным из неоструганных досок столом, под лампой с металлическим раструбом абажура работал резчик. Он оторвался от камня, снял защитные очки, и Вера узнала Лена. Они не виделись очень давно. Одет он был в серую запылённую спецовку – мешковатые штаны и куртку с подсученными рукавами и широким воротом. Одежда выглядела будто с чужого плеча. Болезненная бледность и отёчность под глазами Лена говорили о нездоровье. Он тоже узнал Веру. Застенчиво улыбнулся, и глаза его потеплели.
– Здравствуй, Толик. Я к вам…
Он кивнул и, помедлив, спросил:
– А ты чего?
– Кириллу памятник заказать.
Лен пожевал губами, снова кивнул:
– Фотокарточку надо…
– Да, конечно, я принесла. – Вера торопливо достала из сумочки целлофановый пакет, в который было завёрнуто несколько фотокарточек Даршина.
Толик развернул их веером, как карты. Опять покивал головой и двумя пальцами вытянул одну:
– Эту?
– Хорошо, давай эту.
– Пойдём, выберешь плиту.
Вера, почти не глядя, ткнула пальцем в один из прислоненных к стене прямоугольников. Лен кивнул:
– Я сам сделаю.
– Спасибо, Толик. Куда оплатить?
– Это потом.
– Ну, я пойду?
Толик пожевал губами и опять молча кивнул головой.
Стало быть, Лен осел здесь, на кладбище. Кажется, бросил пить. Наверно, потому, что болен…» – думала Вера, медленно шагая к автобусной остановке.
Предыдущая встреча с Леном случилась, кажется, в 92-м. Толик, слегка навеселе, догнал её на улице и пошёл рядом. Он был возбужден, полон надежд и говорил, говорил. О свободе слова, о демпартии, реформах и переменах. Говорил о новой грядущей жизни, ради которой он, Лен, ходит на митинги; добровольно, не по принудиловке, как прежде, на демонстрациях носит транспаранты в поддержку новых, молодых политических сил.
Вера слушала его, не перебивая. Не спорила и не соглашалась. «Поживём – увидим». На её памяти, да и если судить по рассказам родителей, более дальних предков, по книгам, в России всегда благими намерениями мостили дороги в ад. Так, в вольноотпущенные шестидесятые на полях страны сухим бумажным шелестом жалилась недоросток-кукуруза. А у них в Кущёвке на семью из пяти человек давали один кирпичик чёрного хлеба на два дня. Теперь, когда идею всеобщего равенства и братства затмило изображение чужого президента на зелёной бумажке, недоумение и удивление многих в России вызывает то, как легко и охотно поверили они, что непременно набьют этими бумажками свои кошельки. Будто только об этом и мечтали.
И вот голодают учителя, колошматят касками по московским тротуарам шахтёры, толпами пасутся на помойках бомжи и брошенные, никому не нужные дети. А ограбившие их всех «предприниматели» и прикормленные ими шоумены из СМИ цедят через губу о свободе и больших возможностях. Цинично вещают о пространстве бывшей страны, которое надо освободить от её недавних граждан, дабы создать «цивилизованное общество». По миллиону в год убывает российское население. И теперь здесь, на кладбище, большие деньги делаются...
Как одинокое дерево, крепящееся корнями в земных ращелинах каменистого обрыва, Вера Андреевна всем существом своим ощущала дыхание пустоты, и было не важно, куда и зачем идти – одной по пустынному полотнищу знойной полуденной улицы.
СОДЕРЖАНИЕ
От издателя.
Часть I. Квадруга.
Часть 2. Точки отсчёта.
Часть 3. Просто, просто, просто…
Часть 4. Поиск.
Часть 5. В пределах времени.
Рассказ Николая Киприановича Даршина.
Часть 6. Ветви дерева.
Часть 7. Так было всегда.
Часть 8. Выпали им дороги.
Часть 9. Цугом вытянем.
Д. Лобузная. Роман о Пензе (Опыт лирического послесловия.)