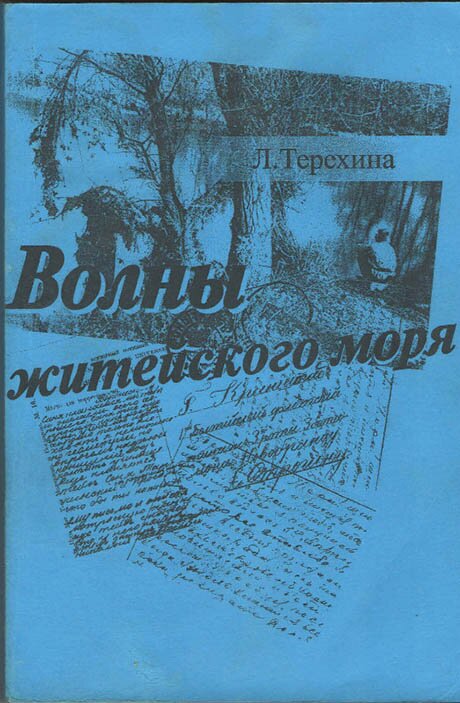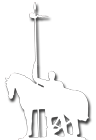Лидия ТЕРЁХИНА
© Л. И. Терёхина, 2005
Часть IV
ПОИСК
"Я попал в какую-то заколдованную,
неумолимую, равнодушную, длительную
полосу неудачи."
А. Куприн. "Жидкое солнце"
Занятия в институте шли вовсю, но Кирилл не особенно утруждал себя академическими часами. Он читал книги. Пробовал писать сам.
Удивительное было то время – с конца пятидесятых до середины семидесятых! Читали все: школьники, студенты, военные; рабочие и работницы, не сумевшие получить образования из-за войны, шли в вечерние школы, учились заочно. А самое забавное – всех, независимо от социального статуса и производственной спецификации не оставляли в стороне пресловутые споры «физиков и лириков». Риторический спор, потому что «физики» ночи напролёт слушали опусы своих супротивников, а петушистые «лирики» пытались поэтическим словом проникнуть в тайны электричества, магнитных полей, атомной энергии. Читали везде: со сцен и подмостков всевозможных дворцов культуры, актовых залов, сельских клубов. Читали на скамейках в парке, в электричках и авто, в обеденный перерыв и на сон грядущий. Чтение художественной и научно-популярной литературы было неизменным атрибутом советской жизни тех лет.
«Вот Митька – счастливчик! Будет физиком-ядерщиком – это сейчас самое мощное направление в науке и в жизни. Будет управлять огромной энергией, – думал Кирилл, сидя на скучнейшей лекции по историческому материализму. Собственная его жизнь казалась какой-то не настоящей, лишённой силы и яркости. – Окончу институт и уеду из Пензы куда-нибудь подальше. Например, на Северный полюс. Или на Сахалин…».
А «счастливчик» Заамурский переживал отнюдь не лучшие времена.
«Привет тебе, кладезь мудрости, любимый наставник пензенской детворы и неуклонный поклонник абстиненции! Бьёт тебе челом опальный рыцарь зеленого змия и горький неудачник, экс-турист СССР и прочее», – писал он. И далее мелким взрывным своим почерком подробно, как в милицейском протоколе, описывались только что произошедшие события.
Сдав экзамен по теории ядра – самый, пожалуй, трудный за весь курс – решили будущие физики всей комнатой отметить это событие. Проотмечали далеко заполночь и уснули, забыв запереть дверь.
Радовались успешной сдаче экзамена в общаге, понятно, не они одни.
А утром, продирая глаза, удостоились друзья лицезреть в дверном проёме своей комнаты коменданта общежития, директора студгородка и председателя студсовета, от которых узнали, что ночью кто-то сбросил в лестничный пролёт фикус вместе с кадкой, огнетушитель и тумбочку из их комнаты. Подозрения в бомбардировке поэтому пали на них, и уже в десять утра злополучную троицу – Заамурского, Кригера и Граевского вышибли из общежития.
Начались поиски истины: ходили, писали, убеждали, склоняли на свою сторону общественность, упивались мрачной славой своей и принимали соболезнования. Наконец, как детективы, собрали подлинные улики и нашли преступника. Хождения увенчались некоторым успехом. Директор вместо изгнания из института объявил всем по строгачу. Друзья сняли дачу в Петро-Славянке. По иронии судьбы переехали с Лесного проспекта на Лесной проезд.
* * *
Размышляя о происшествии с другом, имевшем весёлое начало и не совсем уж печальные последствия, Кирилл спускался по Поповке – домой. Тротуар был раскатан пешеходамтак что приходилось смотреть под ноги. А хотелось – вверх, на заиндевелое кружево крон. Неподалеку от ворот парка его окликнули. Он оторвал взгляд от скользкого тротуара – Томилина. Обычно бойкая, уверенная в себе, Тома выглядела замёрзшей и грустной.
– Что-то ты, Даршин, старых друзей не узнаёшь, – протяжно, как все в Пензе, пропела она.
– О, Тома, привет! Сто лет не виделись… – не обратил внимания на упрёк Кирилл. – Ты чего одна в парке гуляешь? Холодрыга к тому же…
– Я не гуляю, я иду.
Сам не зная зачем, Кирилл выпалил: «А Митя вчера письмо прислал, тебе привет передаёт, – и тут же поправился: – в смысле вам, девчатам».
Тома мягко, почти по-матерински посмотрела на него, потом ответила:
– Митя мне привет не передаст. Мы с ним не просто поссорились, мы расстались.
Повисла пауза.
– А ты знаешь, что Рита разошлась с мужем?
– Нет, – Кирилл покраснел.
– Как в море корабли, – продолжала Тома. – Она ведь и замуж-то выходила, чтоб о тебе забыть. Сама говорила… – Даршин, не находя слов, топтался на месте. – Ну, я пойду?
– Угу. Пока, Том.
В груди Кирилла образовалась, раздалась подобно воздушному шару пустота.
«У каждого есть какие-то внутренние обязательства, хотя бы перед самим собой. И вот я своих не выполнил. Остался мальчишкой-школяром, как и пять-семь лет назад.
В мои годы человек должен уже определиться окончательно, как личность, шагать по жизни уверенно, твёрдо ступая, а я не чувствую себя сильным, всё ещё ищу себя… – размышлял он, бредя по протоптанной между седыми от инея стволами парковых деревьев тропинке. Но ведь не расскажешь этого никому – ни ребятам, ни родителям. Рита… очень славный товарищ, простой и умный. С ней легко и хорошо общаться, но ведь это не было любовью. Я не должен лгать в словах и поступках, хотя у многих это искусство – притворяться – сильно развито. Может быть, и у неё это больше от головы, чем от сердца? Как всё тяжело и трудно переживается, как скверно на душе – ведь всё равно я виноват перед ней… Чёрт возьми, какие пошлые, избитые слова! И как это другие умудряются «пировать на празднике жизни»? Тот же Лёва…»
Кирилл бродил по парку, пока не почувствовал, что основательно промёрз. Похлопал себя по плечам, попрыгал, вытряхивая из одежды холод, и решительно пошёл к выходу. А все неразрешённые им проблемы и не найденные ответы на его вопросы остались витать в морозном игольчатом воздухе, цепляясь за корявые сучочки старых, глубоким сном спящих дубов.
Прогулка эта вылилась в жесточайшее воспаление лёгких. В тот же вечер Кирилл свалился с высокой температурой. Из болезни выкарабкивался почти месяц – отступала она неохотно. Выздоровевшим почувствовал себя в предновогодние дни.
Отец, совсем как в детстве, разжился ёлкой – небольшим пушистым деревцем, заполнившим их маленькую квартирку, точнее – перегороженную шкафами и занавесками комнату густым и свежим дыханием талого снега, хвои и предстоящего праздника.
Ирина Александровна достала с антресолей коробку из-под китайского постельного белья, в которой хранились ёлочные игрушки. Её спас, буквально на груди вынес из осаждённого Воронежа маленький её сын Кирюша. Она перебирала разноцветные стеклянные шары, фонарики, бусы. Самыми красивыми игрушками были из ваты свалянные, покрытые клеем и осыпанные блёстками лебеди с гордо поднятыми шеями. Гномик в полоса тых гольфах и белоснежной курточке-безрукавке, румяный мальчик на санках, выгнутых из проволоки, обмотанной красной ленточкой, как будто явились прямо из сказок Андерсена.
Кирилл загляделся на разложенные по столу игрушки, и тихая радость, совсем как в детстве, заполнила его. Он протянул руку и за петельку поднял забавного длинноухого зайчонка, торчащего из зелёного капустного кочана. Зайчонок покачивался на нитке и крутился из стороны в сторону. «На меня похож», – усмехнулся
Кирилл и повесил зайчонка на еловую ветку.
– Мам, пойду посмотрю, не принесли ли поздравления…
В почтовом ящике оказалось несколько открыток и сразу три письма. Одно – от тёти Лиды, другое – от Мити и…
Кирилл не сразу понял от кого, а когда понял, кровь прихлынула к ушам и на ум пришла почему-то строчка из Маяковского – «моё лицо никак не выжмет штангу ушей», – от Риты.
Засунув два первых письма под брючный ремень, Кирилл разорвал третий конверт. Письмо было написано перьевой ручкой, какими писали в школе. Чернила расплывались по рыхловатой бумаге, и буквы казались пушистыми, хотя выписаны были аккуратным учительским почерком.
«… Я уехала так далеко специально, чтобы быть подальше от тебя, с надеждой, что всё пройдет. Напрасно. Никто ведь не виноват, что я полюбила тебя – ни ты, ни я.
Во Львове мы жили в общежитии. Старинный город, прекрасная архитектура: много костёлов, парков. Самый большой парк занимает 56 гектаров. В центре – озеро, и плавают чёрные лебеди. В этом парке около 60 пород деревьев.
Однако и в такой красоте я не нашла утешения, поскольку душа не находила радости в человеческом общении.
Из львовских впечатлений осталась ещё в памяти могила Ярослава Галана, убитого студентами политехнического института за антифашистские выступления. Вот, чтобы не испытать его участи за утверждение правды в своей «семье», я и сбежала из Львова.
В Николаеве живу у тётки. Из Херсона добиралась сюда на такси – примерно 80 километров. Деревни, деревни и дорога. Херсон – довольно молодой, точнее, молодящийся город, а Николаев – большая деревня.
У нас дома деревце – роза. Я его принесла с базара, хорошенько промыла листья и поставила на подоконник. С виду она неказиста, ветки топорщатся, всё будто ей тесно. Верхушки нет. И вот она в бутонах, пытается зацвести и не может. Мало земли, тесен ящик. Тётка говорит: «За такую цену – и пустоцвет!» Как мне обидно это слышать, я её и купила-то, чтобы она не пропала…»
Кирилл был в растерянности. Вернувшись из июльского похода, он ожидал, что Рита потребует объяснений, но потом, на целине, выматываясь физически, он почти не думал о происшедшем. Встреча с Томилиной в парке всколыхнула его спокойствие, и только теперь, читая письмо, он осознавал, что, может быть, это подарок судьбы, что его полюбила такая умная и чуткая девушка, а он не разглядел, не прочувствовал ценности этого подарка. Он, конечно, напишет ей тёплое сердечное письмо, и, возможно, они сохранят дружеские отношения. Собственно, он не знает ни одной другой женщины, с которой было бы ему так просто. Только вот Джой…
Кирилл усмехнулся: может, мечта эта никогда не воплотится в жизнь – одухотворённая им чужая фантазия!
Митино письмо дышало здоровым оптимизмом и лёгким ёрничаньем по поводу кригеровских романов. Касаемо себя Митя писал:
«…Судьба не наказала его таким жаром, таким же пылом, как Париса и Манфреда; так что он просто испытал самый обыкновенный страх… и сбежал» – эту цитату, старик, я переписываю из одной своей записной книжки в другую, так что уже запамятовал, у кого списал в первый раз. Видишь ли, я давно усвоил, что в жизни случается нередко: милая женщина эволюционирует в ушлую любовницу, а последняя путём несложных юридических манипуляций в паучиху, которая, пользуясь «мирным оргазмом», выкачивает из тебя жизнь и, что главнее всего, – свободу!!! Но не будем горевать, старик! Всё-таки впереди огни».
После института, где жизнь в общем-то была расписана по дням, Кирилл получил направление в отдаленную Пелетьминскую восьмилетнюю школу. Поехал знакомиться. Место историка оказалось занятым. Предложили неполную ставку учителя русского языка и литературы, в порядке совмещения – уроки пения. Показали будущее жильё – кривобокую халупку в три оконца с рябоватой немолодой хозяйкой. Село небольшое, на краю леса. Нет даже хорошей дороги. Раз в неделю завозят кино – крутят с помощью электродвижка в школьном коридоре. Домотают одну бобину – ставят другую.
До районного центра Гурино около тридцати километров по разбитому проселку, до ближайшего железнодорожного разъезда – семнадцать. Не смог представить себя Кирилл Даршин подвижником просвещения пелетьминцев, о чём и доложил директору. Как ни странно, тот обрадовался: выделенные молодому специалисту часы снова мог, как делал многие годы прежде, распределить между старыми учителями. И дал новоиспечённому педагогу вольную.
Перед Кириллом встал вопрос трудоустройства. Однако поиски работы затягивались. Получить место в городских школах оказалось делом нереальным – собственный педвуз за десятки лет наковал осевших в Пензе специалистов с избытком. Облоно предлагал лишь такие же, как Пелетьминка, отдалённые бездорожные уголки.
Пока Кирилл мотался по области в поисках места приложения своего интеллекта и диплома, школьная подруга Ирины Александровны, служившая помощником секретаря одного из отделов в обкоме партии, сообщила, что горплан остался без руководителя.
Кандидатуру Кирилла с её чиновной руки одобрили с одной оговоркой: пока не набрался опыта, пусть послужит исполняющим обязанности. Сам кандидат отбрыкивался, как мог, ссылаясь на свои более чем скромные школьные успехи по математике, на неумение руководить, на нелюбовь к канцелярской работе. Он с ужасом представлял, что всю жизнь просидит в маленьком душном кабинетике, дыша бумажной пылью.
Добили его тем, что вот уже полгода, как он окончил вуз, и ещё ни копейки не заработал самостоятельно. По тем временам могли привлечь к ответственности за тунеядство. Да и сам Кирилл оставаться нахлебником на родительской шее никак не хотел. Потому скрепя сердце согласился: «Судьба!»
Застрекотал арифмометр, зацвокала старая громоздкая пишущая машинка. Замелькали перед глазами планы, расчёты, титульные списки – кому-чего-сколько в процентах, тысячах рублей, фактически за месяц, три, шесть…
Арифмометр, только громадных размеров, оживал по ночам в его снах и гонялся за ним по каким-то безлюдным этажам, чёрные жирные цифры соскакивали с матриц и кривлялись. И. о. вторую неделю ежедневно с девяти утра до шести вечера корпел над справкой об освоении капитальных вложений в жилищное строительство. Сорок два предприятия Совнархоза, пятнадцать – местных Советов, десять МПСовских. Первый отчётный год…
«Встать из-за стола и уйти!» – неожиданно для самого себя произнёс вслух Кирилл. И поднялся. Никому ничего не сказал. Вышел из кабинета, прикрыл за собой тяжёлую парадную дверь здания и пошёл, куда повели ноги. Проходя мимо Пресс-центра, решил: «Если не возьмут журналистом, – уеду куда-нибудь».
По длинному, ярко освещённому коридору Пресс-центра сновали девушки в белых блузках, с бумагами в руках. У дальнего окна курили, похохатывая, трое мужчин. Никто не обращал внимания на Даршина, и он пошёл по коридору, поглядывая на прибитые возле дверей таблички.
«Вот, главный редактор», – Кирилл решительно толкнул обитую дерматином дверь и оказался в «предбаннике». Немолодая, сухощавая блондинка что-то поспешно сунула в стол, видимо, рукоделие, откинулась на спинку стула и выдохнула красными напомаженными губами:
– Самого нет. Будет после обеда.
– Я подожду.
Секретарша пожала плечами и недовольно затюкала на машинке. Кирилл протомился в приёмной минут двадцать, пока дверь не приоткрылась – в комнату заглянул маленький востроносый человечек.
– Пока нет, – любезно разулыбалась секретарша. – Юрь Ваныч, вот тут молодой человек. Может, вы его вопрос разрешите?
Востроносый стрельнул в Даршина такими же острыми глазками:
– По какому вопросу? Пошли…
Они прошли в комнату напротив.
– Я насчёт работы. Хотел бы писать для газеты… – начал Кирилл, но Юрь Ваныч не дал договорить.
– Все ясно. Сейчас – по коридору налево, в шестую комнату. До свидания.
В шестой, за массивным столом, занимающим почти всё пространство от двери до противоположной стены, сидели двое. Мощный, похожий на борца чернокудрый красавец и вёрткий взъерошенный мужичок, возраст которого никак не подлежал определению. Если судить по непоседливости и торчащему на маковке ёршику волос – пионер, по сеточке мелких морщинок под глазами – пенсионер. Побелённые стены комнаты были грязно-жёлты из-за табачной копоти, а может, из-за электрического освещения. Лампочка горела здесь и днём, потому что единственное окошко напротив двери выходило на краснокирпичную кладку стены соседнего здания и совсем не давало света.
– Я от Юрь Ваныча, – сказал Кирилл. – Насчёт работы.
– А-а, омолаживаем кадры, – протянул красавец. – Ну что ж, напиши какой-нибудь материалец, скажем, как идёт зимовка скота в каком-нибудь хозяйстве, а там посмотрим…
Через неделю Кирилла приняли на должность корреспондента молодёжной газеты.
«Растроган до необычайности. Сорвал конвертную шелуху и вгрызся в сочный плод свежих новостей. От возбуждения пританцовывал на месте и причмокивал, как Васиссуалий Андреевич, – писал обосновавшийся в Комсомольске Заамурский в ответ на даршинские новости. – Мои первоначальные наблюдения приводят к выводу, что Пенза отнюдь не дыра. Центром мироздания я склонен считать Питер, а вот Комсомольск – это почти дно ямы.
Романтикой здесь давно не пахнет. Много бытовых неудобств, особенно в сфере питания и торговли. Но кинофильмы новые показывают, даже не по частям. Думаю: умеренно или сильно нас нацепили сказками о рае. Жить здесь можно только потому, что много ленинградцев. Девиз тот же: самообразование и спорт. Других развлечений, чего было вдоволь в северной Пальмире – днём с огнем не сыщешь. И «Литературка» меня травмирует: советует ходить на художественные выставки, в театр…
Куда здесь пойдешь?
Со времён Древнего Рима прошло уже более двух тыщ лет, и римляне были не дураками. Они хорошо знали человеков, которые кричали: «Хлеба и зрелищ!» Так и с хлебом здесь не густо, а зрелищ нет вовсе. Нрав туземцев бере гут. «Рапсодию» боятся крутить, не говоря уж о Бриджит Бардо. Соврадио передаёт частушки для работников сельского хозяйства, временами гоняют зашарпанные, замученные пластинки, в основном на итальянском языке – этакие сусальные и томные песнопения, будоражащие туземок.
Сэр, «я стремился на десять тысяч вёрст вперёд», ну а приехал на десять лет назад. Общая картина быта – Пенза 50-х годов.
Обыватели копошатся в своих домах и по возможности расхищают социалистическую собственность. Даже туземки инстинктивно льнут к контрагентам. Единственное оконце – письма, но и переписку я ограничил до предела: мама, ты, Лёва.
Ты ещё не изжил такие вредные для газетчика качества, как скромность, стыдливость, сентиментальность, еts?
Придётся с этим завязать, друг мой. Ведь жизнь, как говаривал О. Бендер, – диктует нам жестокие законы. Уж если ты решил прибиться к акулам пера, то придётся покончить с изящной словесностью (Есенин, Блок, Бальмонт, Северянин). Почитывай-ка, брат, «Капитал» и помни, что человек ещё существует на земле только потому, что производит кое-какие материальные блага.
Время, когда миром будет править разум, придёт ещё не скоро, а может быть, и вовсе не придёт, т. к. править будет нечем. Поэтому оставим грядущим учёным проблемы космогонии, а на наш век ещё работы хватит простым газетчикам и экономистам. Но помни, что профессиональная болезнь кабатчиков и газетчиков – алкоголизм – подкрадывается тихо и незаметно!
Значит, тебе придётся громить хищников быта, подводить их под выездную сессию. Набивай руку (ручку, пишущую машинку, ротатор и т. д.). А там, глядишь, мы составим альянс Нью-Херст – Нью-Морган, потому что я хочу стать экономистом и организовать производство на высоком уровне. Чего-то уж очень много всяких деклараций – от соцобязательств до программ, а нужны мощные экономические рычаги. Может, мой интеллект в этом деле и пригодится.
Стригите газоны, поливайте фикусы, сэр! Читайте наших гипермодернистов, учитесь у них! Если вызовут на малый совнарком – заезжайте ко мне. Я пока постараюсь форсировать все занятия и отбыть на Far East. Но это не потому, что я сочетался красным советским браком. Просто здесь очень скучно и, кроме как науками, заниматься нечем.
В последний день пребывания в Питере Лёва от вина и дождя размяк и начал читать наизусть Киплинга. Что-то про Амазонку. Даже заплакал, что друзья «пропадают».
Надеюсь, сэр, вы не уподобитесь печальному Гиппопо на знойной Суре по случаю моей женитьбы. Желаю и вам скорейшего разрешения матримониальных проблем. Заамурский».
«Одна у меня проблема, – подумал Кирилл, засовывая письмо обратно в конверт, – сам не знаю, хочу ли того, что делаю. Хочу поехать далеко-далеко, а еду в замшелый колхоз, где ночую в грязной гостинице, набитой клопами, и у небритого полупьяного председателя беру интервью. Он два слова связать не может, и приходится сочинять за него, что в этом году урожай овса на полтора центнера больше, чем в предыдущем, хотя и в предыдущем и в этом поля пламенели сурепкой. Митька всегда делает то, что хочет. Мне бы такой характер – железный. Решил – сделал!»
* * *
Митя, окончив институт, в Комсомольск-на-Амуре попросился сам. Отчасти потому, что традиционно туда уезжали самые надёжные парни с прежних выпусков – создавали и обслуживали один из мощнейших в Союзе ядерных центров. Отчасти потому, что составить ему компанию решил и Граевский. К тому же этот город был окрашен в голубые цвета романтики тридцатых годов. По пути на восток он заскочил в Пензу на три дня – повидаться с матерью, друзьями, Инной – той самой актрисой из Народного театра, о которой говорил Даршину Кумир. Кирилла в городе не было – мотался по колхозным полям в поисках героя начавшейся уборки. Друзья не встретились.
Два дня Митя провел с Инной на Суре, два вечера в театре и две ночи в раздумьях о дальнейшей жизни. На третье утро вслух сказал себе: «Пусть будет, что будет», поцеловал мать и с полупустым чемоданом ушёл на вокзал.
В Комсомольске поселили вновь прибывших физиков в общежитии – тридцатых годов постройки бревенчатом двухэтажном бараке. Комната – на двоих. Через неделю после Митиного приезда явился Алик.
Работа в лаборатории шла посменно. Оба с нетерпением ждали первой получки: у Мити не было даже бритвенного прибора – стрелял у друга. «Первой покупкой инженера будет собственная бритва», – мечтательно заводил он. – «И дюжина носков. Лезут, черти!» – подхватывал Граевский. Фантазии Мити заходили далеко – заиметь когда-нибудь собственную пишущую машинку. Алик, шурша в кармане последними тремя рублями, дальше мечты вдоволь поесть не заглядывал.
«А не разделить ли эти заботы пополам?» – напрашивалась мысль, но Митя отодвигал её: «Пока потерплю. Вот стукнет угол – двадцать пять – наверняка рискну». В долгие ночные дежурства хотелось ему выть от тоски по милой средней полосе и ещё больше по покинутому северному краю. Он истязал себя чтением Паустовского – взял в библиотеке Центра. «Картинки Солнечной Туземии» не заслоняли песчаного косогора на берегу Суры, где пропадал он целыми днями в детстве и юности и где провёл с Инной два чудесных дня.
Хотя и в лесном болотистом краю находились места замечательные – всей лабораторией ездили в выходные на рыбалку на Амур: скалистые, поросшие мхом берега, тёмный сосновый бор. Но это как в любви – сердцу не прикажешь. «Не хватает мне здесь чувства личной свободы и умной товарищеской среды, и культурных традиций», – читал у Паустовского. Говорят, бытиё определяет сознание. Митя физически ощущал, как у него пропадают все противоречия с этим «фундаментальным» законом всяческих социальных наук. Одиночество тяготило. Пытался развлечь себя составлением кроссвордов для «Огонька», спасаться чтением, сном.
Однажды от тоски зелёной напились с Аликом в местной забегаловке, и по пути к общежитию их подобрал милицейский «воронок». Проснувшись утром в казённой конуре вытрезвителя, Митя решил окончательно «завязать» с алкоголем и никогда не «опускаться до такого свинства». Алик, с похмелья отличавшийся разговорчивостью жареной трески, только вздыхал, обхватив ладонями кучерявую свою голову. Утешая себя, что даже сорок миллионов лет назад с мужчинами случались подобные казусы, и поблагодарив за ночлег выпускавшего их сержанта, друзья вернулись в общежитие. Алик лёг досыпать, а Митя умылся, переодел рубашку и отправился в лабораторию. Там ждал его приказ провести контрольные замеры излучений разработанной лабораторией установки. Предстояло проехать по нескольким дочерним предприятиям Приморья побывать во Владивостоке, потом с результатами – в Обнинск.
Владивосток произвёл на Заамурского впечатление серого и тёмного города. Только на открытках, облеплявших окна бульварных киосков, цвели яркие краски. Как настоящий американский безработный, Митя столовался в кабачках, а от холода спасался в кинематографе. Пока мотался по бухтам и базам, дозрела давно процарапывающаяся мысль: уезжая из Владивостока, с вокзала послал Инне в Пензу письмо, что, дескать, если её не пугает Восток, он готов… и просит… и, короче, в Обнинске на главпочтамте будет ежедневно ждать её решения. А ежели будет таковое положительным, он заедет на день-два в родной город, чтобы забрать её с собой.
На вечеринке по случаю отъезда новой семьи Заамурских, заменившей свадьбу, присутствовали только Кирилл и две подруги Инны по Народному театру. Театр этот можно было считать вполне профессиональным по уровню игры актёров и репертуару, но профессионалом в общепринятом смысле являлся только режиссёр, а в спектаклях заняты были учителя, инженеры, рабочие. Представления давались только по воскресеньям и праздничным дням, а репетировали в вечернее время, после работы. Инна была врачом-педиатром, поэтому вопроса с трудоустройством в Комсомольске перед ней не вставало.
Кирилл отметил, как заботливо хлопочет вокруг невестки Варвара Ниловна, довольная выбором сына. Митя немного пыжился, изображая завзятого женатика. Когда они вышли покурить во дворик, Кирилл с лёгкой завистью произнес:
– Ну, Митька, умеешь ты принимать железные решения!
– А что же, раз сами куём чего-нибудь железного…– отшутился Митя. И уже серьёзно добавил: – Я всегда жду от жизни чего-то лучшего, как бы скверно не приходилось в настоящем. Потому что она, жизнь, ещё очень длинна и неизбежно разнообразна, так много будет впереди и плохого, и хорошего… Я во Владивостоке неделю слушал наше советское радио: столько-то осталось до величайшего события нашей эпохи и т. д. и т. п. И стал озлобленной контрой. В душе, так как кругом женщины, скверно ругался матом. Что бы такое – не мог придумать, – подарить ХХII съезду? Беда, если останется без подарка. Ну и решил: пусть событием, достойным мировой общественности и лично Никиты Сергеевича, станет моё бракосочетание. Это я тебе как работнику идеологического фронта докладываю.
Друзья расхохотались и по школьной привычке Митя легонько боксанул Кирилла, а тот не замедлил с такой же демонстративной затрещиной.
Помолчали, посасывая папироски. Холодные тучи клубились над колодцем старого пензенского двора, освещённого только редкими горящими окнами его обшарпанных трёхэтажных домов. Студёный ветерок потягивал из подворотни и озноблял тела, понуждая стягивать на груди лацканы внакидку надетых пиджаков.
– Все уже круг друзей… Грустно, девицы! – произнёс Митя. – Кумир тебе пишет? Как он?
– Пишет. Тоскует…
– Да-а-а, не хотел бы я оказаться на его месте.
* * *
Институтский роман Кумарина оборвался в один день. Все – родители Лёнчика и мать Ирочки Непринцевой, друзья и знакомые ждали скорейшего его разрешения самым естественным способом – свадьбой. Домашние уже начали потихоньку готовиться к разорительному этому мероприятию. Но Кумир всё не решался сделать официального предложения. Не потому, что сомневался в своих или Ирочкиных чувствах, а просто не знал, с чего начать. Отчасти, конечно, боялся брать на себя ответственность за будущее – страх, свойственный большинству молодых мужчин, даже не допускающих мысли, что ответственность за это будущее ещё в большей степени ложится на плечи их избранниц.
– Ну, вот сдадут выпускные экзамены и поженятся, – утешали друг друга родители.
Но недреманное око военкома заведомо вычленило из юношеских масс физически крепких, годных к исполнению воинского долга призывников. В тот самый вечер, когда на институтском выпускном балу гремел духовой оркестр и Кумарин носился с однокурсницами по актовому залу, крутя их то влево, то вправо под мелодии вальсов, вызванные на «сборы» запасники бегали по вечерним улицам и переулкам, разнося повестки. Призывникам отводилось всего три дня гражданской жизни, а затем следовало явиться с вещами на сборный пункт в Финогеевские казармы.
Заявившись домой со светом – с друзьями гуляли по городу, потом он провожал Иру – Лёнчик сразу увидел на кухонном столе казённую бумажку, прижатую к столешнице, чтоб не сдуло, ножом. Не сомкнувшая всю ночь глаз мать вышла из спальни и повисла на плечах сына, тоненько завыв.
– Мам, погоди, прочитаю, – отстранял её Лёнчик, но она не отцеплялась, причитая:
– Сыночек, Лёнюшка, как же это сразу-то? И на волюшке не дали побыть. Мы-то надеялись свадьбу вам сыграть, а теперича надо проводы…
– Сядь, мам, – ему удалось, наконец, отцепить мать. – Ведь не в тюрьму забирают, чего ты! А Ира меня подождёт. Я сейчас к ней сбегаю, ты только не плачь, – и Лёнчик бросился к выходу.
– Ой ли… – обливаясь слезами, мать покачала головой.
Когда Кумарин, возбуждённый и слегка растерянный, пробарабанил морзянкой по оконному стеклу, Ира еще не легла. Сидела перед тусклым сереньким в предрассветье зеркалом, разглядывая туманное своё изображение, и думала: «А что Лёнечке остаётся делать? Он любит меня, и рано или поздно всё равно сделает предложение. А любит ли? Может, я, дурочка, всё напридумывала? Да нет, он без меня дня не проживет, на других девчонок не глядит даже. Любит, любит!» Ира ничком бросилась на кровать, утопив лицо в податливой пуховой мякоти, ещё переживая Лёнечкины ласки.
Условный стук как пружина вытолкнул её из постели. «Вот он, вернулся, сейчас скажет», – заскакали мысли вдогон зачастившему сердцу. Она отодвинула защёлку и распахнула окно. Кумарин легко перескочил через подоконник.
Новость обрушилась на Ирину снежной лавиной – понесло, скрутило, сломало и остудило. Кумир в силу своей молодости и простодушия даже понять не смог, что с ней произошло. Вместо ожидаемых слёз и клятвенных обещаний ждать его хоть всю жизнь, Ира молча упёрлась ладошками ему в грудь, отстранила, села на стоящий рядом стул и уставилась в зеркало.
– Ирусь, ты чего молчишь? Ты меня ждать будешь? – тормошил её Лёнчик.
Не отвечая на его вопросы, она взяла с подставки гребень и начала медленно расчёсывать чёрные свои локоны. Кумир обнял её сзади за плечи и тоже заглянул в зеркало. Из глубины его выступали два прекрасных молодых лица – одновременно встревоженное и озабоченное его, Кумарина, и белое, в опушении чёрных волос похожее на маску – его Ирочки…
Ира не пришла проводить его, хотя Лёнчик трижды срывался из-за стола, за которым собрались родственники и друзья, и бегал на Попову гору. Дверь в доме Непринцевых была заперта, на условный стук никто не подходил к окну. В отчаянии Кумарин загрохотал по двери сначала кулаком, потом ногами. Тоненьким звеньком отозвались стёкла, но дом стоял как вымерший.
Так и не увидевшись с Ирой, Кумарин ушёл на сборный пункт. Провожал его туда только Даршин, мать удалось уговорить не ходить дальше своей улицы – во избежание лишних слёз.
Службу Кумарин начинал в Кунгуре под Пермью. После прохождения «азбуки» – курса молодого бойца – и принятия присяги первогодков вывезли в тайгу на зачистку площадки под полигон. Место для него почему-то определили на заброшенном кержацком кладбище. Сначала пилили гулкие сосны, вымахнувшие под небеса на прореженном могилами просторе. Затем пошли в дело мощные бульдозеры. Их блестящие беспощадные лезвия взрывали пласты земли вместе с трухлявыми колодами, из которых сыпались коричневые человеческие останки – черепа, кости; в прах рассыпалась истлевшая посконная ткань, И хотя не чувствовалось запаха истлевшей плоти, казалось Лёнчику, что в знойном воздухе носятся вместе с пылью мириады клеток разложившегося в земле и потревоженного человеческого естества. Первые трое суток многих рвало, почти никто не мог съесть даже куска хлеба, потом привыкли.
Через два месяца земляных работ Кумарина вызвал командир роты. В часть пришло распоряжение направить пятерых наиболее толковых солдат в Бакинскую школу сержантского состава. Отбирали ребят, имеющих среднее и высшее образование. Кумарина назначили старшим по команде. Выдали новенькое хэбэ, сухой паёк и командировочное предписание.
Смена места жительства в молодости – дело пустяковое, особенно если ты человек подневольный. Куда пошлют – там и сгодишься, авось да ещё не хуже будет – как-никак Азербайджан по сравнению с Сибирью – курорт!
Кумарин на всякий случай отправил Ирине пятое письмо. На четыре она не ответила. Лёнчика больше всего мучило то, что она ничего не пожелала объяснить.
Бакинский гарнизон встретил «сибиряков» знойными солнечными залпами, зеленью, лезущей из всех щелей и трещин предгорного плато, сладким запахом цветущих роз и нефти, которой, казалось, вспотевали даже камни.
Состав школы только ещё формировался. Прибывали командированные на курсы бойцы из разных мест Союза – народ разношёрстный по национальности, взглядам на жизнь, вероисповеданию. Большую часть прибывших, как и Кумарина, зачисляли сразу – подготовка велась по программе четырехгодичного военного училища. Усвоив ускоренный курс и получив специальность, новоиспеченные сержанты назначались на должности командиров-воспитателей и разъезжались в различные гарнизоны и рода войск. Некоторых оставляли при школе до конца службы. Кумарину предстояло специализироваться на радиопеленге, где обязательным предметом являлся иностранный язык. Этим он был доволен, хотя позже понял, насколько ограниченным было здесь изучение языка – только военно-политическая терминология.
От рождения общительный и открытый, Кумир в сержантской школе тяготился одиночеством. Не то чтоб не с кем было поговорить, разговорщиков хватало, но… не хватало тёплых искренних отношений, связывавших пензенскую «квадругу». Короче, никакой лирики, везде, как скудный солдатский паёк, оголённый принцип и осуществление его во всех мелочах с грубой солдатской весёлостью. Письма из дому были единственным очарованием в его уставной жизни. И воистину «грустно, друг мой, тошно, когда «всё ясно это, всё понятно»!
Ещё по пути в Азербайджан подружился Кумарин с одним саратовцем, но того как и не бывало после очередной «перетасовки человеков». Попытался сблизиться с другим – хороший паренёк, – в армию пошёл с мечтой «стать железным человеком» – но этого забрали в другую часть на курсы поваров.
И уже доволен был Лёнчик общением с земляком Гришей – длинным, неуклюжим, большеротым, с осыпанными веснушками лицом и шеей, с узенькими хитрыми глазками.
Тонкий знаток пищи оказался приятель – её разновидностей и пользы. Особенно хорошо разбирался в количественном её содержании. То ли разбойничья рожа его, то ли иные какие таланты способствовали, но без добавочного ковша редко вылезал он из-за стола. Перепадало и Кумарину, что не было лишним.
После беспрерывных нарядов и дежурств «через шесть по шесть» (шесть часов дежурства, шесть отдыха и так далее) – появлялось только два духовных стремления – выспаться и количественно порубать. Щи, каша и чай – не изменяющаяся трёхгодичная еда не надоедала никогда. После еды хотелось снова строиться и идти на второй заход. А между тем Кумарин прибавил в весе на восемь килограммов. Нежное лицо его огрубело, и выглядеть он стал старше своих лет.
Регулярные занятия разнообразились общественно-трудовой повинностью – приходилось разгружать картошку из вагонов на товарной станции, строить военные дороги, здания, возить нефтяные трубы, драить котлы на кухне и «играть в водное поло», или, как ещё называлось мытьё полов в казарме – танцевать «лебединое озеро».
«Я не жалуюсь, дружище, но факт, что наши лучшие годы проходят как один день, в котором 1095 восходов и заходов солнца. День этот наполнен подъёмами, отбоями, нарядами, строевыми смотрами, политзанятиями. «Служи по «Уставу» – завоюешь честь и славу», «Приказ начальника – закон для подчинённого», – как вам, сэр, тематика? На комсомольских собраниях все торопятся занять укромный уголок за широкими спинами товарищей, чтобы почитать детективчик или черкануть письмецо. А впереди сидящие вынуждены тупо смотреть в рот очередным ораторам.
Любое нарушение устава чревато гауптвахтой и лишеним всех солдатских «благ». Личного времени полагается в сутки полтора часа: сюда включается и выполнение общественных поручений. Я – агитатор, член бюро и редактор стенгазеты, пляшу в солдатском ансамбле и ублажаю начальство художественным свистом. Остатков времени едва хватает на стирку портянок, чистку сапог, пуговиц, подшивание воротничков… Кто вернёт нам двадцать лет?
Единственное, что меня утешает – это долг перед Родиной, к зову которой нельзя оставаться равнодушным».
Безыскусные армейские послания Кумарина как будто всколыхнули пелену, застилающую давние годы. Проглянуло из глубины то, что Вере ведомо было давно, да засыпалось шелухой наслаивавшихся друг на друга событий.
Ей живо представились кущёвские мальчишки, друзья её юности, мечтавшие об армии. В деревне считали: кто не служил – тот не жених. Не служил – значит, больной. А больной – какой мужик? Какой отец будущим детям?
Примитивный, даже жёсткий подход такой оправдан был единственной причиной – интуитивной заботой о здоровье народа. И потому хотя и вопили по уходящим на службу сыновьям бабы, призывники гордо вертели стрижеными под «нуль» затылками, неловко обнимали подружек и друзей. Ошеломлённые выпитым «на дорожку» самогоном и вниманием к собственной персоне, лихо запрыгивали они в тамбуры проходивших через их станции и полустанки поездов, втискивались в и без того набитые рейсовые автобусы…
Через месяц-другой присылали они домой любительские фотоснимки – в не обношенном ещё, мешковатом обмундировании, но вот он я – солдат, защитник Отечества!
В солдатскую униформу вливались мальчишки постепенно, и от первых месяцев службы к последним семейные фотолетописи свидетельствовали, как мужали недавние мальчишки. Через три года возвращались в родительские пенаты крепкие, возмужавшие парни.
Второй год службы давался Кумарину значительно легче первого. Пообвык, приобрёл необходимые навыки. Неоднократно побывал в Баку со своим танцевальным ансамблем – город его поразил красотой белоснежных зданий, буйством зелени, экспансивностью обитателей. Во время визита Хрущёва курсантов «бросили» на помощь работникам общественного порядка. Стояли в оцеплении возле Музея Ленина – шикарного пятиэтажного здания, специально возведенного к «хрущёвским дням». Народу было преогромное количество. Кричали, давили друг друга, и пришлось-таки здорово попотеть, сдерживая напирающую на «жизненное пространство первых лиц» толпу. О Кумарине писали в дивизионной газете как об одном из лучших агитаторов гарнизона, активном участнике художественной самодеятельности. Однако служба не всегда шла гладко.
Как хорошего гимнаста его начали готовить к Спартакиаде Вооруженных сил. Предстояла поездка в Ленинград. До отъезда же надо было за две недели сдать пятнадцать экзаменов. Для удобства тренировки переселили Лёнчика из казармы в отдельный корпус, где в одной из секций жили спортсмены. Их было двенадцать, в основном – бакинцы. Имея разряды, а главное – знакомства в военкоматах, после призыва в армию расселись они по частям Бакинского гарнизона.
«Недалёкие, шумные, наглые, пройдошистые, исключительно практичные молодые люди эти представляли собой серию Паниковских молодых лет, только без интеллигентской закваски», – писал он о своих новых знакомых в Пензу.
Кумарин зубрил Уставы, которые основательно возненавидел за два года учебы. Армяно-азербайджанское спортивное окружение его ухмылялось: дескать, по ночам спать не даёшь, цитатами шпаришь.
Их же разговоры сводились к трём темам: спорту, что вполне понятно, «разновидностям насилия над обеими полами: запас их знаний в области сексуальных извращений, кажется, был неисчерпаем». Кумарина уже тошнило «от их принципа коллективного насилия и от их разговоров, когда для связки двух слов сыпались русско-азербайджанские ругательства с перечислением всех, какие только есть, прогалин в бедном человеческом теле». Претила «их мелкая житейская сметливость и шакалья хватка фруктовых, мануфактурных, ремесленно-торговых барахольщиков». Он видел, что «живут эти люди даже здесь, в армии, гораздо лучше любого ударника и Героя труда пензенских предприятий. Погоня за богатством и достижение определенных успехов в этом возведено у них в ранг геройства. Всё, даже встречи с друзьями, устраиваются исключительно в рамках деловых связей, ради выгоды. Покупаются и друзья, и жёны».
Кумарину становилось страшно: что если в будущей гражданской жизни именно эти люди, такие, как они, будут править бал в стране?! Он был единственный русский среди них, он понимал, что нет смысла говорить с ними, тем более спорить. Он наблюдал, «как слаженно работает механизм их взаимоотношений», и ощущал себя чем-то вроде вымпела с призывом добиваться успехов в труде, поставленного на станину подалее от вращающихся маховиков и шестерёнок.
В общем-то, относились к нему нормально: как-никак свой брат, спортсмен, хоть и русский. Общаясь с новыми сослуживцами на бытовой почве, Кумарин чувствовал голод по хорошим человеческим чувствам. Он мечтал о доме, жаждал поговорить с кем-нибудь из старых своих пензенских друзей. Учёба и тренировки не оставляли времени даже на письма.
И всё-таки он выкроил несколько минут и написал последнее – так решил для себя – двадцать первое письмо Ирине. «Очко», – подумал. – Если не ответит, больше писать не буду. Писать – сущая мука, не писать – того хуже».
Здорово засела Ирина в Лёнчикову душу – хуже занозы.
«Ладно, снова не ответит – не за горами дембель: увидимся, поговорим…» Он писал, что всё время службы тосковал о ней и понял, что только она нужна ему, что теперь он скоро вернётся, и они обязательно поженятся. На это письмо, наконец-то, пришёл ответ.
Кумарин возвращался вечером из спортзала, вымотанный тренировкой. Спортбосс форсировал занятия – спартакиада была на носу. В фойе, на подставке у высокого, в весь простенок зеркала, куда почтальон выкладывал корреспонденцию для обитателей спецкорпуса, увидел конверт. На тёмной полировке подставки он белел так ярко, что у Кумарина зарезало глаза. И ещё не взяв его в руки, он понял – это ему. Конверт был вскрыт, но Лёнчик не обратил на это внимания. Выдернул тоненькийлисточек, исписанный аккуратным школьным почерком.
«Ах, мой милый Августин, всё прошло, прошло…».
Ему показалось, что обрушились стены корпуса и со всех четырёх сторон хлынула чёрная, как каспийская нефть, ночь.
Перед отбоем старший по команде, сержант Венчер, голенастый и смуглый до черноты, похожий на французскую полицейскую собаку, попытался высказаться по поводу кумаринской переписки. Осознав, что это он вскрыл письмо, Кумарин схватил его за грудки и выместил все свои наболевшие чувства, набивая физиономию этому «пинчеру», убеждая таким образом, что чтение чужих писем неприлично и чревато понижением по службе. Спортсмены не вмешивались – с любопытством и даже интересом наблюдали за происходящим.
Сержант оказался трусом: мало того, что не отвел карающей кумаринской руки, но даже не доложил по начальству. Вместо этого занялся мелкой мстиловкой – за дело и без лепил Лёнчику наряды.
В воскресный день Кумарин белил солдатский ватерклозет – сержант придрался, что он плохо тянул носок, когда шли на обед. Пришлось набраться терпения и стойко перенести несправедливость. Досадовал лишь на плебейские замашки своих собратьев, закрашивая едкой хлорной известью следы их жизнедеятельности. В конце концов – будничная воинская обязанность. Труднее было по исполнении долга минут пятнадцать выслушивать наставления ненавистного Венчера о том, как надо тянуть ногу. И молчать…
«Через пять минут построение. Даршин, милый, непрактичный человек, живущий мечтами и книгами, напиши, каков же твой окончательный выбор: народного учителя, служащего банка или редактора детского альманаха «Мурзилка»?
Все лучшие пожелания только тебе. Жму твои благородные музыкальные лапы. Эх, выпить бы с тобой бутылочку рому, побродить по Пензе!»
Даршину бродить было некогда. Он бегал – самый молодой в редакции. «Журналиста, как волка, – ноги кормят», – поучал зав. отделом и отправлял его в подсобное хозяйство Буммашзавода. За город, на своих двоих, поскольку туда ходил только рабочий автобус в семь утра, да в пять пополудни – обратно. Еженедельные вылазки в районы тоже требовали немало сил, времени, изобретательности, потому что транспортом служили в основном попутки. Хорошо, если за корреспондентом пришлют «уазик» или хотя бы лошадь с телегой. А нет – бери ноги в руки. Материал нужен срочно, в номер, и никто не вправе сорвать выпуск газеты.
Круговерть эта длилась с посевной до конца уборочной. В эту пору никто даже не мечтал об отпуске, забывали про выходные и праздники. Выматывало бездорожье. Весеннее половодье, разливаясь по оврагам и ложбинкам, отрезало пути к отдалённым деревням. В осеннюю распутицу разбухали жирные чернозёмные проселки, и надо было тащиться по невспаханной еще стерне – прямиком через поле – с налипшими на сапоги ошмётками грязи. Зимой сбивали с пути бураны, заносившие чуть пробитые в снегах колеи, прихватывали нос, уши и щёки трескучие морозы, насквозь пронизывали ледяные ветра.
Зато с какими интересными людьми перекрещивались пути! В нахохлившемся вознице, невзрачном мужичке в латаном-перелатаном нагольном тулупчике открывался вдруг кладезь житейской премудрости. В недавно отстроенной, ещё пахнущей тёсом колхозной конторе, случалось, обнаруживался государственный ум. Его обладатель знал, что и как надо делать на благо Родины гораздо лучше, чем сидящие за жёлтыми обкомовскими, да и за красными кремлёвскими стенами. На бревенчатой тёмной стене кособокой избы в Мордовской Норке среди тусклых семейных фотографий – вдруг портрет Дмитрия Ивановича Менделеева с автографом.
– Как? Почему?
И старуха, бывшая учительница начальной школы, повествует: «В такой же вот, как нынче, буран замело дороги, и возок, в котором Менделеев ехал из Пензы к свату своему, помещику Трирогову в Наумкино, сбился с дороги. Свернули на огоньки, мерцавшие внизу, и оказались в Мордовской Норке. Наша изба – крайняя. Попросились переночевать. Великого химика удивило, что в глухой мордовской деревне потемну жгут керосин и ребятишки сидят вокруг стола и читают вслух Библию. А у нас тятя в армии денщиком служил, грамоте обучился и слово дал всех своих детей выучить читать и писать.
Поутру Дмитрий Иванович с ним переговорил – не хотят ли дети учиться. «Как не хотят, они к грамоте тянутся, да только где учить и на какие средства?» Менделеев уехал, а по осени от Трироговых приехал на телеге человек с запиской и четверых старших ребят забрал в пансион. Таким образом мы, все двенадцать человек, в трироговском пансионе и выучились. А оплачивал нашу учебу Дмитрий Иванович Менделеев. Позже Калмыковы – это фамилия наша – в институтах обучались – учительском, медицинском. Один брат лётчиком стал, один священником. Этого на Соловках уморили. Старшая сестра с Евсевьевым и Крупской работала…».
Герои труда, фронтовики-орденоносцы, люди, прошедшие фашистские и сталинские лагеря, на первый взгляд ничем особо не примечательные кормильцы и защитники Отечества – всё это был его, Даршина, народ. Русские, мордва, татары, осевшие на мирной пензенской земле представители других народов. И Кирилла наполняла гордость от того, что он причастен к их судьбам, пусть в малой степени. Он сам – один из них. Они светили ему подобно звёздам – не тем, что зажигают теперь на людных площадях, – искусственным, соединённым обыкновенной электропроводкой и зависящим от того, кто владеет кнопкой. Владеющий ей может выключить ток (денежный поток), и они погаснут. Звёзды, которые светили Даршину, светились сами, как вечные небесные светила, и даже от погибших, от них ещё сотни лет падает и будет падать на Землю свет. Это были люди самых разных, зачастую трагических судеб.
Одна из таковых, на всю жизнь запомнившихся, встреч была с Леонидом Ивановичем Волковым, руководителем Темниковского оркестра народных инструментов. Он умер в 1967 году, один из лучших балалаечников Страны. Предчувствуя смерть, обнимал, целовал свою балалайку, говорил ей: «Я тебя в обиду не дам: положу с собой в гроб. Мои, жадные до денег, разве выполнят моё желание, зная, что за тебя можно получить большие деньги? Не обижайся на меня, я тебя лучше разобью на щепки, чтобы не торговали тобой и не глумились». Он играл, может, даже лучше Нечипоренко – профессора Гнесинки, но не имел таких условий этот эрзянин.
Так осознавалась Даршиным жизнь, потому что была ГАЗЕТА, была его РАБОТА. Неспокойная, нервотрёпная работа газетчика.
* * *
«… Подумать только, какой-то листик бумаги, а с каким нетерпением его ждёшь, с какой радостью его вынимаешь из почтового ящика и, пока лифт доставляет тебя на «свой» этаж, вскрываешь конверт. Большое Вам спасибо за память. Ведь теперь только и живёшь этими светлыми отблесками. Привет родной Пензе, а что касается поездки – обещать не могу. Думаю, что заехать в Москву Вам будет проще, по пути в Трускавец. Ведь я живу один в этой громадной квартире. А Вы даже пишете мне редко, и в памяти звучат стихи Расула Гамзатова:
Пишите письма старикам,
Их писем не кладите в долгий ящик.
Ах, эти письма, каждая строка
В них стонет…
О своей жизни писать мне вовсе и нечего, так как «личная» жизнь – в прошлом, и здесь болтаюсь я в чужой жизни как неприкаянный. Идёт время, а оно работает против нас. Из-за одиночества мы имеем и раннюю седину в волосах, и устройство мира кажется нам несправедливым. Как хорошо сказал Тургенев: «Разлуку переносить трудно и легко. Была бы цела и неприкосновенна вера в того, кого любишь – тоску разлуки победит душа.
Нижайший поклон Пензе и
целую Ваши руки. Георгий».
Удивительное тепло и свет исходят от писем наших родителей, вершителей Великой войны, спасителей России. Оставшись в живых в кровавой той бойне, они научились ценить счастье самых непритязательных, обыденных проявлений мирной жизни.
Вы скажете, что хорошего в её безыскусности и однообразии?
Они видели в этом красоту. Они радовались робким саженцам, распускающим клейкие листочки в их собственном шестисоточном «раю». Они были на седьмом небе оттого, что – наконец-то! – въехали в тридцатиметровку. И только лёгкой печалью об ушедшей в неведомое молодости окрашивались в их воспоминаниях оставленные полуподвальные и коммунальные клетушки.
«Третий день в Пензе стоит погода Колымы – штормовые ветра со снегом и небольшие морозы. Погода нелётная, и мы большую часть времени проводим дома, благо, квартирный вопрос разрешился и теперь света и воздуха у нас через край.
В этом году я всерьёз занялся селекцией. Установил связь с опытными садоводами, достал черенки и привил. Есть даже сорта нашего земляка – воронежца М. М. Ульянищева – Российское полосатое, Фарфоровое; Мичуринское – от Черненко. Дают плоды Уэсли, Шафран китайский, Алебастр. Одна яблоня у меня плодоносит семью сортами яблок! Выращиваю школку исключительных сортов смородины, как то «Победа», Сибирская, Слава алтайская, и другие.
Ирина не может расстаться со своими пионами и гладиолусами – отказалась даже от путёвки в санаторий. Гордится, что развела какие-то сверхкрасивые жёлтые лилии, ромашки едва ли не с чайное блюдце.
А вас мы будем ждать в сезон клубники. Брат».
«Очень удивился, получив от Вас записочку из Воронежа, а не из Пензы. Что называется «мимо нас с песнями». Но ничего удивительного: одинокий человек – ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Впрочем, я не жалуюсь. Живу, «как ветер морской, как свободная песня поэта… Г. С.».
«1976. 31.08. Не понимаю, откуда каждый день у меня набирается так много разных дел, что к вечеру – устаю. Читаю книги, слушаю радио, а надо развлекаться, быть среди людей, молодёжи. Лето подарило нам под конец прекрасные солнечные дни, все съехались к началу учебного года. Но в выходные город снова опустел – выбрались люди на природу – в парки города, в лес по грибы, на пляжи, рыбалку и охоту.
Дорогая Ирина Александровна, Вы писали, что поедете в Латную, и я надеялся, попутно навестите и меня. Получив письмо из Воронежа, очень обрадовался, но когда прочитал – такое разочарование! Я был уверен, что ещё раз увижу Вас.
О своей жизни: ем, пью, сплю, работаю – всё по заведённому кругу. Лучше Лермонтова не скажешь: «Уж не жду от жизни ничего я…»
Не стыжусь признаться: устал я страшно, устал жить.
Если надумаете посетить столицу, буду рад Вашему присутствию в моей холостяцкой квартире, но теперь уж я не дам Вам ничего делать, а только буду просить прощения за прошлое. Целую руки, Ваш Георгий».
P. P. S. В середине сентября уеду в Ригу, а потом на месяц в Англию с лекциями о Севере».
* * *
Пока «старики» утопали в дачных разговорах и воспоминаниях о прошедшей жизни, вырвавшиеся из-под опеки дети их решали «глобальные» проблемы. На карту ставилась судьба, и от сиюминутных шагов – так всегда кажется в молодости – зависело завтрашнее счастье.
Вернувшись из трёхдневной командировки по колхозам, Кирилл чувствовал себя «на последней ноте». Вечером «хорошо посидели» с ребятами из башмаковской районки и комсомольскими вожаками тамошнего разлива. А в предыдущие дни не вылезал из колхозов. Март раскиселил дороги, даже райкомовский «козлик» не везде мог проскочить. До иных хозяйств только пешком и можно было добраться. Хорошо, что у шофёра оказались в запаске литые резиновые сапоги. Маловаты оказались, но на ноги налезли. «Для начальства и вожу. Они наших дорог не знают. Дальше райцентра редко забираются, а если рискнут, то посуху. А что если дождик?» – разглагольствовал водитель, пока Даршин натягивал спасительную обувку.
В сапогах этих его и доставили в Пензу. На стоянке-пятачке около Советской площади переобулся в не просохшие ещё полуботинки. В Пресс-центр решил не заходить – всё равно материал «сырой». Предстоит бессонная ночь, придётся доводить до ума все эти вести из хозяйств о положении с кормами и готовности техники к весенней посевной.
Однако на почтамт заскочил. Строгая барышня через окошечко шлёпнула перед ним на стойку скопившуюся корреспонденцию. Даршин начал пользоваться услугой «до востребования» после того, как из почтового ящика на двери их квартиры стали пропадать газеты.
Рассматривая адреса, он отошел к окну. Сквозь застеклённый, мутный от мелкого дождика, проём над высоким цоколем старинного здания «Главпочты» виден был кусок площади и уходящая в сизую мглу Московская. По ней брели маленькие люди. «Тихо в нашем городе, сударь, – вполголоса сказал сам себе Кирилл. Усмехнулся и продолжил, невесть с какой стати: «Было несколько уголовных мероприятий, взбаламутивших спокойствие граждан, но поскольку благодаря оперативности местных блюстителей порядка исполнители обнаружены не были, все стихло».
Проходивший мимо гражданин в мокрой, с обвисшими полями шляпе и с фанерным ящиком подмышкой, зыркнул на него диковато и поспешил занять очередь в окошечко.
Даршину стало почти весело. Он засунул в нагрудный карман полученные письма: «Все хорошо. Дома приму душ, мама заждалась – накормит чем-нибудь вкусненьким, потом прочитаю советы всех «огорошенному», как сказал бы покойный Козьма Прутков, и за работу!» Он ещё раз проверил, надёжно ли лежат письма, нахлобучил на лоб кепку и вышел под висячий, почти не опускающийся на асфальт дождь.
Дома, как и всегда, мать хлопотала на кухне, стараясь угодить сыну. Отцу нездоровилось. Мартовская сырость сказывалась на его легких, и он, укрывшись байковым одеялом, лежал на диване с книжкой.
После душа и сытного домашнего ужина Кирилл ушёл в свою комнату. Включил настольную лампу, разложил на столе блокноты, ручку, стопку нарезанной газетной бумаги. За столом он работал, сидя на жёстком венском стуле. Это вошло в привычку. Но письма – другое дело. Он уселся в мягкое кресло с деревянными подлокотниками и открыл лежавший верхним конверт. Письмо Кумарина, проходившего действительную службу в Азербайджане, умилило Кирилла.
Лёнчик только что вернулся из Ленинграда, с армейской олимпиады. Вместе с «Почётной грамотой» привёз воспалившийся аппендикс. Наградой своей был доволен – как никак в соревнованиях участвовали лучшие из лучших гимнастов всех военных округов. Но то, что вместо обещанного начальником сборного пункта отпуска загремел в госпиталь, поначалу огорчило. Однако только поначалу. Потому что
«...вместе с выздоровлением нахлынуло на меня чувство влюблённости во всех на свете женщин. Впервые за время службы я жил взахлёб, лучше здорового. Смеялся, занимался гимнастикой, жмурясь на солнце от распиравших грудь чувств.
Условия к тому были замечательные: изящная кухня, лебединые постельные принадлежности. Облачённый в белый суконный костюм – куртку и – главное! – брюки, я гулял по госпитальному парку, и восторженно расширенные глаза мои замирали на каждой встретившейся женской фигурке: отборный контингент молодых медицинских сестёр везде – в беседках, аллеях, в клубе, библиотеке… Тёплая южная ранняя осень. Всё это, вместе взятое, кружило мне голову, и на какое-то время я забыл про свои любовные напасти.
В ночные часы засиживался в дежурке с медичками. Не мог решить, на ком из них остановиться, т. к. каждая казалась мне прелестной. Высокая худенькая, с точёной шейкой, смуглой кожей и выразительными печальными глазами армянка Лариса, пухленькая, с трогательным румянцем и по-детски оттопыренными губками мордовочка Лизонька, маленькие глазки которой блестели как пуговки, и она всегда их таращила, пытаясь увеличить «до стандартного размера». Бакинка Нонна – белокурая, с живой смышлёной рожицей, хохоча, говорила, что «давно знает жизнь», дескать, поторопилась выйти замуж за офицера, которого не любит и который её не понимает.
Старая банальная история, друг мой! Всё-таки ни одна из этих девушек не сможет заменить мою Ирочку, мою принцессу… Чёрт побери, а почему кто-то из них должен кого-то заменять? Они – сами по себе».
Уже после выписки из госпиталя получился у Кумарина непродолжительный – до дембеля – ни к чему не обязывающий и необременительный роман с Нонной.
В Баку проходил съезд писателей военной книги. Долматовский, Исбах, автор популярной повести «На дальних берегах» Касимов приехали в воинскую часть, где служил Лёнчик, пообщаться с личным составом. Место в Красном уголке рядом с Кумариным заняла Нонна. Из клуба он пошёл провожать её до стоящих на отшибе от казарм офицерских пятиэтажек. По пути заглянули «проверить, как идёт служба, пока ефрейтор гуляет, в каптёрку. До полного восстановления здоровья Кумарина поставили на хлебную должность каптенармуса.
Все эти превратности солдатской судьбы явились следствием отказа Кумарина от сверхсрочной службы. И теперь, как почти все «срочники», он заранее начал готовиться к демобилизации. Спорт, чтение и баян скрашивали медленно текущее время. С Нонной отношения складывались неровно. Виделись они по выходным, да и то если не на дежурстве Кумарин, зато на дежурстве муж Нонны. Неожиданно демобилизацию задержали на три месяца – из-за подписания договора с Германией.
«Обидно, Кир! Я два года только и мечтал – домой! И опять… фашисты. Сколько ж их, сволочей, бьют, и всё без пользы дела», – писал он Даршину.
«Наивный, славный Кумир! Женщины его за нос водят, а он о них целые поэмы строчит. Теперь ему фашисты покою не дают, – думал Кирилл. – Другое дело Митька. У него уже сын родился. Он себя состоявшимся человеком чувствует, советы рассыпает:
«Женишься ли ты когда-нибудь, старый чёрт? Не пора ли подумать о продолжении рода?» «Стерпится – слюбится», – говорят на Руси. Может, именно в этом великая сермяжная правда? В наши годы, старик, уже нечего надеяться на чудо: первая любовь бывает только раз. Ты, сэр, конечно, считаешь, что жена должна быть ещё и хорошим близким другом. К сожалению, не всегда».
«В наши годы…» – усмехнулся Кирилл. – Нам лишь по двадцать семь, а древние греки считали: «До сорока не женись, ну а после долго не медли». Я ещё мир посмотреть хочу, а не только Пензенскую губернию. Вот возьму и сорвусь куда-нибудь, хотя бы в кругосветное путешествие. Ребята в Наманган зовут: там шестнадцать вакантных мест в газете, опять же экзотика – сугубо узбекский город… Книг, – пишут, – накупили там, абрикосы, персики… Или лучше в столицу. Московский, главный редактор «Советской России» весьма благожелательно отнёсся к такой возможности. Только и спросил: женат ли и состою ли в партии. На оба «нет» вспомнил высказывание Мэхлиса: “Для сотрудника газеты первой, второй и третьей женой должна быть только редакция”. А Митька – женись! Может ещё перейти на должность школьного инспектора и заняться чтением графа Солиаса в окружении дюжины маленьких чертенят?!»
Будущее рисовалось Кириллу в совершенном тумане, как у Остапа Бендера в начале знаменитого васюкийского турнира. «Эх, ещё бы хоть разок организовать с ребятами поход на Печарку, но… предсъездовская трудовая вахта кончится, начнём изучать решения съезда и воплощать их в жизнь. Так и будем жить от съезда до съезда, от выборов до выборов… «Грустно, девицы!» – как сказал бы Митька».
Кирилл поднялся, достал из буфета бутылку сухого болгарского вина – говорят, в прежние времена лечило даже чахотку – плеснул в чайный бокал и, потягивая терпкую кисловатую жидкость, продолжил чтение.
«Пишу не из собственного дома, где предавался тихим радостям семейной жизни. Где есть даже балкон. Куда купил мебель и вышел из бюджета. Оказался, как Никифор Трубецкой, тоже Ляпсус. А деньги были хорошие после одной командировки в степи. Хотя многое там ещё не готово, и удивлять мир мы будем позже. По-прежнему куём чего-то железного. Я сейчас в столице. И грядут большие события. Возможно скоро я сменю место жительства.
Ты не заметил, что стало не так легко сходиться с новыми людьми? Старый друг – лучше новых двух. Иногда молчать с каким-нибудь человеком – тяжёлая работа. А с близким можно и помолчать.
Недавно я сделал на телевидении серию передач об исчезнувшей цивилизации и потопе. Говорят, имел успех. Жду теперь приглашений на «Интервидение» (можешь сделать «ха-ха»).
Впереди у меня год защиты диссертации, а в библиотеках тучи народу, как мух на медовом листе. Поэтому главное – можно теперь без помех работать за собственным письменным столом. И хотя не утряслись ещё газово-лифтовые проблемы, но… друзей уже можно приглашать! Это не намёк, а официальный призыв!
«Когда изменяемся мы – изменяется мир», – написал ни бельмеса не смыслящий в генетике поэт Женька Евтушенко. Как он прав! Вообще писатели со своим нюхом часто опережают науку и копают глубже. Вот тебе цитата из Ф. Достоевского – это из «Подростка»: «У нас создался веками какой-то ещё нигде не виданный высший культурный тип… – тип всемирного боления за всех. Это тип русский… Он хранит в себе будущее России». Что скажешь, старик, а?
Устал я здорово, но чувство, что время потрачено не зря, вдохновляет.
Великие праздники канули в Лету, но о них кое-кто будет долго помнить. Ушла на пенсию Е. С. Фурцева, сняли Месяцева – радио и телевидение, Михайлова – печать, Романова – кинематограф. Ходят упорные слухи об изменениях в финансах. Короче, обстановка сложная.
Совершенно неожиданно весть о запуске китайского спутника с точки зрения техники оказалась очень серьёзной. Враг не дремлет. У нас на этот счёт дела обстоят не блестяще. В ближайшее время ничего серьёзного не обещается.
Ещё раз перечёл твоё письмо и, откровенно говоря, немного позавидовал. Половодье, весна, сев – всё так обычно и немного патриархально. Гуляешь по Руси великой, ведёшь разговоры с хлеборобами, перед тобой предстают настоящие русские женщины во всём великолепии их трудового порыва, всё спокойно, чинно, без суеты. А здесь в духоте и пыли бегаешь как ненормальный и не знаешь, когда всё это кончится. Надо больше работать. Я и стараюсь.
В воскресенья по вечерам выхожу в эфир и часа три-четыре получаю истинное удовольствие. Сейчас началась новая экспедиция РА, так что через нашу станцию будет поступать вся корреспондентская информация от Сенкевича. 19-го в 13-00 будет первая связь Океан – Москва.
Из культсамообраза посмотрел «Обыкновенный фашизм» и «День и час» с Симоне Синьоре.
Уезжать из Пензы тебе не советую. Оставь романтику слушателям «Юности». Восприятие мира зависит от человека, а не от места. Не обязательно вдохновляться океаном или горами, можно – берёзками и тихой речкой. Д. З.»
Третье письмо оказалось от Юрки Воробейчика из Ярославля. Занесло его ветром плановой ковки кадров в Высшую партшколу. Парень Юрка тормозной, и начальство сочло, что учёба в ВПШ вправит ему мозги. От коротенького письмеца бывшего одноклассника, а теперь райкомовского работника, Кирилл пришёл в полный восторг.
«ВПШ – это тебе не институт: здесь люди постигают марксизм-ленинизм, политэкономию, философию. Получают пенсион 300 рэ и зарплату по месту работы. Это тебе при ВПШ.
Помнится, на лекции Фугановского я писал:
И всё равно я улечу
Туда, на спину уличью.
И отсюда, смотри, улечу.
… И звёзды ехидно спросили и строже:
«Вам много? За двадцать? Иль, может, вы старше?»
Я мог промолчать. Но бывает такое –
Я руку вознёс над кружащимся роем
И, чтоб услыхали там, дальше, за Млечным,
Я тихо, без строгости крикнул: «Я – вечен.
Вы помните: вашим ведь рухнуть случалось,
А я не имею конца и начала.
И вот я вас создал в кипящем сознанье,
Чтоб смех ваш, и свет, и игра – были дань мне.
Хочу я – и ваши бездонные рати –
Леса и нейтрино, и сонмы галактик,
Пространство, понятья, любовь и движенье –
Всё сгинет, исчезнет: ведь вы – отраженья…
Я вырастил чувства, болота и звёзды.
Мне – сколько? Секунды и вечность – я создал!
«Ну, Юрка даёт! – прямо-таки новый Кюхельбекер… Мне бы как-нибудь к утру по командировке отписаться, а наш Воробейчик на Божий трон претендует!» – Кирилл перебрался на венский стул и начал просматривать свои блокнотные записи.
Даршин был на десять лет старше Веры, и в ту пору, когда она переживала первые туманные волнения чувств, он входил в период любовного азарта, той гонки за новым опытом, новыми ощущениями, новыми миражами. Ведь известно: каждый из живущих и живших, и тех, кто будет жить на земле потом, вместе с душой вдыхает некий образ – идеал – тот самый мираж, в погоне за которым, в поисках которого мы сжигаем годы. Редкие достигают его. Но возможность приблизиться к нему дана каждому.
Многие воспаряют на облацех самообмана, принимая за него временные иллюзии. И так блаженствуют, пока не обнаружат перед собой пустоту. Тогда падают они обратно на землю, больно ушибаются или погибают, и тогда душа их начинает очередной космический виток.
Некоторые добровольно отказываются от поисков. Предпочтут спокойствие и сытость в тёплом стойле – да зачастую и этот выбор оказывается кратковременным. Неведомой силой может быть взорвано такое благоподобие жизни, а человеческое существо выброшено в поле душевных страданий о несбывшемся.
Собственно, что есть жизнь? Заключенный в цепочку ДНК земной опыт всех колен рода твоего от Адама? А дух, или Бог – есть всё то вокруг, что не сотворено руками человеческими? И этот дух подобно искре негасимой освещает зачатие; и вдыхает его всякий, едва явившись на свет? Поэтому в каждом из нас скрыта, как в зерне злаковом, память всех предков наших, их земной опыт? Поэтому каждый из нас чувствует в себе искру божественного огня? Ничем иным невесть откуда приходившие к ней знания о своих прошлых жизнях – а Вера знала, что они были – объяснить было бы невозможно.
Безжизненное зноище пустыни. Песчаные холмы, сувои песка. Клонящееся к колеблющемуся маревом неверному гребню сыпучей горы белесоватое солнце. Она, Вера, впрочем, разве важно имя? – она, двенадцатилетняя девочка в длинном выгоревшем на солнце и пообтрепанном по подолу, но некогда, видимо, красивом платье, только что набрала воды, сочащейся из-под белого гладкого камня, в круглый сосуд, сделанный из большой высушенной и выскобленной изнутри тыквы. Чуть в стороне от живительного ключа – шалаш – три перевитых, жёстких как железо карагачёвых палки враскоряку воткнуты в песок, собраны вверху в пук и накрыты бесцветным, забитым песком тряпьём. Возле него – гибкая, молодая, иссушенная зноем женщина – её мать, пытается раздуть маленький костерок, чтобы приготовить какую-то еду.
Девочка торопится скорей принести ей воду.
И тут наезжают всадники в чёрных шёлковых халатах и свежих белоснежных чалмах. Начальный страх рассеивается, едва только девочка замечает, что мать, забыв о костре, торопливо увязывает в плат вещи. Потом чернобородый незнакомец подает ей руку, и мать легко взлетает на спину крупного каурого жеребца. Один из троих всадников подъезжает к девочке – к Ней, молча подхватывает и сажает перед собой на коня. Она одной рукой вцепляется в холку, так и не выпустив из другой наполненную водой тыкву. И кони скачут быстро. И Она радостно думает, что скоро снова вернётся в свой белокаменный, в садах утопающий город. И не будет тех страшных дней, когда их мир рушился, когда сквозь дым, вопли и яростные крики они бежали в эти безжалостные пески.
* * *
Вера могла только предполагать, что писал Рите Кирилл. Начала читать её письма с предубеждением, и даже с некоторой ревностью, поистине уж неуместной в свершившихся обстоятельствах. Но какая женщина устоит перед соблазном сравнительного анализа?! Читала письмо за письмом и всё глубже погружалась в болезненную ирреальность: ей начинало казаться, что это пишет она сама из какой-то иной жизни, которой – и в этом она тоже уверена – никак не могла проживать. Она была уверена, что поступила бы так же, как Рита; она полностью разделяла её оценки событий, людей, ситуаций. Она мыслила так же, теми же словами излагала мысли.
На сереньком любительском фото, выпавшем из одного из конвертов – худенькая востроносая, наверно, с конопушками молодая женщина. Мягкие подвитые волосы, глаза светлые, большие, одновременно с бесенятами и нерастопимой печалью. Нет, они совсем не похожи внешне.
Но вот Рита пишет Кириллу с борта «судна-посудины «Белоостров» Черноморского пароходства:
«Сбежала из Сочи, не вынесла скуки. Последние десять дней не видел меня Ривьерский пляж. А потом я и морю изменила – приходила только поздно вечером, когда там не было ни одной души» (не так же ли, как Рита на пустынный вечерний берег моря, уходила от дневной суеты и пустозвонства Вера в безлюдный утренний лес).
Вера никогда не видела Черного моря. Видела Белое, Каспий, Аральское, Северный Ледовитый океан… Поездку на юг они с Кириллом все откладывали на потом. И он горько сожалел об этом, когда уже нельзя стало ему из-за сорвавшегося сердца свозить туда жену. Так что, Черноморское побережье – это только их страна – Кирилла и Риты.
«… Чехов всегда современен, потому что обыватели – очень распространённые герои нашего времени, и потом будут: мещанство, которого я так боялась и бороться с которым не умела и не умею, засасывает многих, поэтому напиши мне одно-единственное письмо и больше ничего не надо. У меня здесь много времени, чтобы излечиться…
Замужество меня бы поглотило. Что было бы со мной, можешь прочесть в сборнике Л. А. Авиловой «Чехов в моей жизни». Только она была в более выгодном положении, поскольку в её жизни всё-таки был! Чехов, а в моей?
Чтение «язвительных» авторов, конечно, очищает, снимает плесень. Только им помимо таланта нужна смелость и солидное положение, как, например у Шолохова, чтобы говорить правду. И если тебе надоело в Пензе – «Жиздре», то почему бы и не стать бродягой, если это не каприз. По-моему, нужно делать, как дети, а если начнёшь размышлять, ни на что не решишься.
Никого я не признаю своим наставником. Книга есть книга, она не живая. Я сама нахожу и оставляю людей. Только я долго помню их и страдаю, если ничем не могу им помочь, потому что они мне становятся роднее родных. Так было всегда, с раннего детства. Наверное, каждый человек должен найти, в чём его долг, и выполнить его. По-моему, лучше всех это понимали все Они, которые были до Ленина, и Ленин. Мой путь ещё в самом начале, я знаю, на нём не ждут меня ни благодарность, ни слава.
Ты не замечал: незнакомому человеку легче исповедаться, потому что лепишь его по себе и считаешь, что он поймет всё так, как надо тебе? Так вот, в 1845 году, покидая Сибирь, полуживой Михаил Фонвизин (до ареста – генерал, богатый, счастливый, здоровый) поклонился в ноги Ивану Дмитриевичу Якушкину за то, что тот принял его в тайный союз».
Эти слова не показались Вере патетическими или наивными. В них не было неведенья. Нет, просто не может человек с сердцем прожить, не подкрепляя свои жизненные установки сходными образцами или хотя бы верой в существование оных. Обязательно: «до нашего поколения были герои», а в нашем поколении честь продаётся за тридцать серебряников, за куну, рубль, любую разменную монету. Не хочется верить, что герои – во все времена – штучное явление.
«Мне говорят: «Умрёшь раньше времени или с ума сойдёшь. Надо жить проще – заботиться только о себе. Основное – личное спокойствие (знакомые евреи).
Немного воображения, и я просто «струйка жизни». Если ты станешь совсем стариком, я буду писать о тебе мемуары, а если первым критиком моих литературных опытов – поддержишь меня. Если бы я писала дневник, то он был бы в виде писем к тебе. Но… уважаю людей без благих намерений!»
Мятущаяся, искренняя, ищущая душа! Вере стали до боли близки её сомнения, чувства, мысли: что-то, что не сложилось у Кирилла и Риты тогда, сложилось позже у них.
Кирилл был строгим первым критиком её литературных опытов, и теперь, когда его не стало, она с полным правом может взяться за мемуары. Такое бывает?
Когда Рита «пропала» – перестала писать Кириллу, он пытался разыскать её. Напрасно. Видимо, Рита решила навсегда оставить «найденных ранее людей».
«Хулиганство здесь очень развито и опасно. О бесправии мирных и порядочных читайте, слушайте и на себе испытывайте. Главное, что люди разобщены, коллектива нет. Потому так и бесправен каждый, что стоит только за себя перед миром негодяев и начальства…»
О каком это времени писано, неужто не о нашем «перестроечно-постперестроечном»? Это мы «перед лицом начальства и негодяев» бесправны. Это мы разобщены, а «коллектив» – стало ругательным словом. Увы! Это о благословенных шестидесятых. Тогда же и писано. Так что никуда мы не движемся, а по кругу, по кругу…
«Однажды в заброшенной деревушке, сидя за столом, где чужие мужчины вели «мужские речи», я подумала вслух: «Кто же защитит меня в эту ночь, день и дальше?» Ответили мне тогда: «Ты должна сама себя защитить». Можно окоченеть от таких слов. Лучше пусть съест меня работа, чем жить рядом с человеком, который смотрит на себя и для себя. А я – на других и для других.
Только потому, что ты реальный, а не выдуманный мной человек, пишу тебе об этом. Ведь мы не связаны друг с другом, мы свободны. Просто оба одиноки. Я свои намерения буду менять много раз, но от этого изменится только содержание писем, потому что я прикована к Николаеву нуждой.
… Я вовсе не хочу, чтобы ты ходил ко мне каждый вечер пить чай, не хочу выходить за тебя замуж, я хочу хотя бы иногда видеть тебя и ждать – пусть раз в год, но знать, что ты появишься. Ведь у меня никогда не было такого хорошего, умного друга.
Чтобы не плакать, по вечерам читаю Симонова. А когда накоплю денег, уеду в Ленинград, а может, в самый северный край.
Есть такой закон: если начертить на белом фоне круг, то белое пятно внутри этого круга становится ярче, белее фона. Однажды я взяла и очертила вокруг тебя такой круг, и ты стал ярче, чем многие другие. Но сколько бы я ни старалась, вдохновляя тебя, ты не хочешь быть Героем. Если поверить Бунину и Авиловой, то можно плакать: «Чехов не мог быть счастлив».
Прочитала «Бильярд в половине девятого» Г. Белля. Я люблю немецкую речь, немцев, немецких писателей, немецкую музыку. Может быть, потому, что первыми хорошими людьми, которых я встретила, была немецкая семья Дейс. Когда-то в России их было пятеро. Потом остались две сестры – Фрида и Ядвига, но и с ними я потеряла связь.
Еще читала «Дневник Анны Франк». Эта девочка немного похожа на меня в 14–15 лет.
Кстати, на следующий год можно договориться с Томкой о твоем побеге из Пензы. Сейчас она скитается где-то в таёжной экспедиции».
Уход в тайгу с биологической экспедицией не состоялся потому, что брали в отряд только специалистов-естественников. И в ноябре, выбив долгожданный отпуск, Кирилл рванул к Чёрному морю, в Николаев. Не курортное время – сыро и ветрено.
Неделю провёл он в городе, ночуя в беседках и на скамейках в городском саду – на вокзале безбилетных гоняла милиция; у Риты, делившей с тёткой комнатушку, просто не было места. Она работала в школе-интернате, и когда кончалось её дежурство, они шли к морю. Уходили по каменистому побережью вдоль шипящего, вспенивающегося холодного прибоя далеко за город. В полуразрушенном, неизвестно кем и зачем построенном когда-то дощатом сарайчике находили защиту от ветра и уединение.
– Самое замечательное тут – шум моря. Под него хорошо думается. Ты знаешь, я не умею плавать, а мне почему-то не верят. Летом в Сочи затащили в воду, когда штормило, и бросили – думали, я поплыву. А я стала захлебываться, и так жутко мне показалось под водой! Иногда мне становится так же жутко жить, как там…
Кирилл, сидя на корточках, пытался растеплить в собранном на песчаном полу мусоре огонёк. Отсыревшая бумага и древесные обломки дымились и не хотели воспламеняться.
Рита после паузы заговорила снова:
– Перед твоим приездом – дня за два – вечером в интернат зашёл один человек. Я его не раз прежде видела на улице, поэтому не испугалась. Я была в воспитательской одна. Дети уже спали, а моя напарница ещё не пришла на ночное дежурство. Он читал мне стихи, возможно, свои. Потом начал говорить по-немецки, бегло, а увидев ноты, вдруг – о музыке.
Фигура прекрасная, настоящего атлета, лицо есенинское, а глаза странные… как у князя Мышкина. На улице он всех заметных женщин провожает глазами, каждой мимолетно заворожён. И я подумала: «Какое несчастье загнало его в Николаев? Понимаешь, Кирилл, именно почему-то несчастье. Потому что он никак не вписывался в здешние улицы, ничем не походил на других мужчин.
– А я? Я вписываюсь? – спросил Кирилл.
– Увы. Видишь, у нас холодает. По-моему, это связано с твоим отъездом. – Кирилл поднялся и молча обнял Риту, обхватив её плечики бортами своего плаща. – Но я переживу. А следующим летом приеду в Пензу и дам тебе лизнуть свою солёную руку.
«Я переживу». Все мы переживаем… жизнь, – думал Кирилл, качаясь на верхней полке общего вагона. – Опять Пенза. Однообразие и скука. Скука однообразия. Теперь нет даже друзей, с которыми не замечалось убожество обыденности. Кумир – в армии, Митя все куёт своё железное, Кригер обосновался под Ленинградом в каком-то номерном НИИ. Женщины? – Кратковременно и скоротечно. Потому что «смотрят только на себя и для себя». Как точно назвала Рита большинством людей владеющую болезнь! И мной – тоже, как ни стыдно в этом признаться. Может, и наказует меня скука потому, что рвётся душа из «жиздринского» полусна, призывает искать свой путь. А я? Мечусь как неприкаянный, сам не знаю, чего хочу.
По возвращении из Николаева никак не мог он собрать мысли, чтобы написать Рите. Это оказалось куда трудней, чем накатать за ночь целую полосу. Понимал: что-то между ними так и не складывается. Не понимал – что.
Через много-много дней от Риты пришло ещё одно письмо.
«Скучное это занятие – писать письма из Николаева. С тех пор, как ты уехал, не была ни в кино, ни в театре, ни в филармонии, ни в музее. Читаю Маяковского. Ты заулыбался? Что ж… Я еще «Битву в пути» читаю. По вечерам хожу к морю. Берег опустевает – не то, что днём, когда пляж усеян учительскими телами, поскольку август.
Встряхнула меня грандиозная весть о полёте Гагарина в космос. Как и все, пересмотрела газеты, от радио ни на шаг не отходила, и поняла, что совсем оторвалась от советской действительности. Новые надежды окрылили меня. Поняла, что надо менять жизнь, и написала в целинный совхоз В. А. Степанову, который писал очерки «Под ветрами степными» в «Литературке». Он настоящий человек, коммунист. Если пригласит, уеду туда. Или куда-нибудь…»
Это была последняя весточка от Риты. И пройдёт ещё несколько месяцев, прежде чем Кирилл ощутит образовавшуюся пустоту. Он напишет в Николаев. Отыщет Томилину. Но будто быстротекущая река поглотит Риту. Лишь подобно сброшенной на берег одежде останутся её письма. Он перечитает их в один из свободных осенних вечеров, аккуратно сложит в тоненькую стопочку, перевяжет тесьмой и положит на нижнюю полку шкафа. Там хранилась занесённая на бумагу память о прошедших пределах жизни.
СОДЕРЖАНИЕ
От издателя.
Часть I. Квадруга.
Часть 2. Точки отсчёта.
Часть 3. Просто, просто, просто…
Часть 4. Поиск.
Часть 5. В пределах времени.
Рассказ Николая Киприановича Даршина.
Часть 6. Ветви дерева.
Часть 7. Так было всегда.
Часть 8. Выпали им дороги.
Часть 9. Цугом вытянем.
Д. Лобузная. Роман о Пензе (Опыт лирического послесловия.)