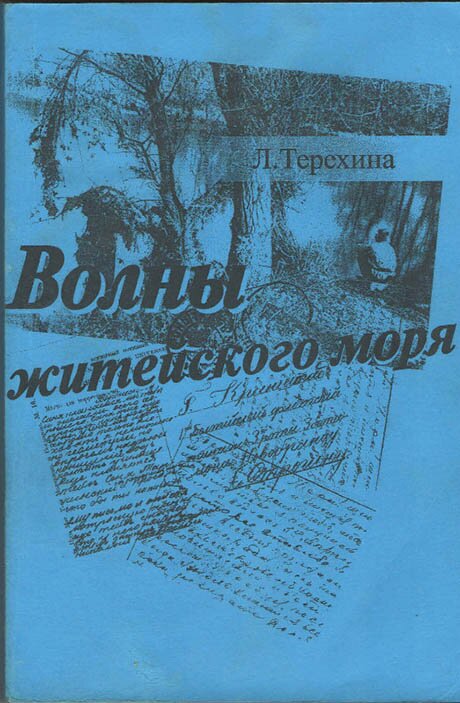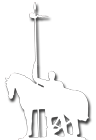Лидия ТЕРЁХИНА
Может быть, эта книга поможет
будущим поколениям понять нас и
правильно оценить наше время и наши дела.
© Л. И. Терёхина, 2005
Я люблю усталый шелест
Старых писем, дальних слов…
Максимилиан Волошин
ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Какими только удивительными путями не попадают к потомкам свидетельства прежней жизни! То где-то в обезлюдевшей много веков назад местности в заброшенной пещере обнаружатся полуистлевшие свитки, схороненные неведомым обитателем тех мест в необожжённой глиняной амфоре. То приполярная экспедиция найдёт у подошвы обомшелого валуна просолённый матросский сундучок, окованный изъеденным ржой железом, а там, в укупоренной сургучом бутылке, записи капитана с лежащего на дне морском и уже почти затянутого илом корабля. Случается, заберутся мальчишки на чердак предназначенной на слом халупы и из-под обломков осыпавшейся кирпичной трубы извлекут на свет запылённые, в паутине и древесной перге дневники…
Я сам был свидетелем такой находки. Году в шестидесятом, кажется, – странно произносить, но уже прошлого века, – отец мой решил перекрыть наш старый пелетьминский дом. Позвал на помощь соседских мужиков. Мигом раскидали сопревшую солому, свалили стропила. Из-под застрехи вытащили мешок, под завязку набитый керенками, пачку николаевских денег, толщиной с дедушкину Библию, и завёрнутую в тряпицу книгу. Она была в кожаном переплёте, изгрызенном по краям мышами, с медными узорными уголками и такой же застёжкой.
«Родословие», – прохрипел ошарашенный дед, отряхнув обложку. Прижал пыльную, трухлявую книгу к чистой, после бани надетой рубахе, и ушёл в сад. Там у него сооружён был шалаш, в который он переселялся каждое лето из душной, по его словам, избы.
Найденные деньги отец сбросил нам, ребятишкам, на игрушки. Керенки – скучные белые карточки с надписями чёрной печати – мы в буквальном смысле развеяли по ветру с крутой осыпи оврага за деревней. Они долго кружились в воздухе, похожие на гигантских бабочек-капустниц, одна за другой ныряли в кудрявый серебристый ивняк, разросшийся внизу над торфяными ямами. А на красивые большие купюры николаевских долго ещё выменивали мы друг у друга различные безделушки.
Однако эта рукопись попала ко мне самым обычным образом.
Постперестроечные времена многих вышибли из накатанной жизненной колеи и заставили изыскивать средства выживания. По сокращению демобилизованный из армии приятель мой, капитан Юрий Прокушев, вернувшись в родной город, решил заняться издательским делом. Благо, сфера эта в Пензе оказалась почти не развита: единственная типография – в Пресс-центре – находилась на грани развала. Юра уговорил двух толковых парней, в службе которых тоже перестало нуждаться Отечество, вместе сгоношили они кое-какие средства и завели мини-типографию. Получили лицензию – всё чин чином.
Я им пригодился как человек, осведомлённый в орфографии. С учительским своим дипломом и разносторонними увлечениями не вписался я в разразившийся базар, а потому страшно обрадовался приглашению осуществлять в созданном отставниками ЧП сразу две функции – редактора и корректора – за одну зарплату. Главное, её пообещали мне выдавать ежемесячно, а в школе, где я преподавал русский язык и литературу, денег не видели месяцами.
Предприятию нашему способствовало то, что народ пензенский – тугодум. Долго раскачивается, прежде чем сделать какой-то шаг. Вот, пока другие думали, мы потихонечку раскручивались. Начинали с этикеток – пивных, вино-водочных, кондитерских. Листовки к выборам печатали, агитки. Претенденты рвались во власть и устилали себе дорогу деньгами. Ну и нам от их щедрот крохи перепадали. Вскоре мы даже некоторую известность в городе получили – дескать, делают небольшие тиражи печатной продукции, зато хорошего качества. Видимо, на волне этой известности и появилась в моем чепешном закутке Алла Исаевна. Так она представилась. Обыкновенная женщина обыкновенной внешности – с легкой азиатчинкой в лице, как большинство жителей Пензенской области, издревле граничащей с Диким полем. Вытащила из цветастого полиэтиленового пакета увесистую папку с тесёмками, аккуратно положила передо мной на стол.
– Вот, может быть, вас заинтересует. Это рукопись моей подруги. Я уезжаю на лето. Зайду узнать в сентябре. Или позже… Если до зимы не появлюсь, поступайте с ней по своему усмотрению. Там, куда я еду, она не нужна.
Признаться, без всякого оптимизма глядел я на принесённую рукопись. Надеялся поволынить летом, поскольку наша обычная клиентура – преподаватели местных учебных заведений со своими программами и пособиями – летом не пишут, а пашут на дачах. Думают, так сказать, уставясь пятой точкой в небо.
Но работа есть работа. Вздохнув, я ответствовал: «Хорошо. В сентябре так в сентябре. После двадцатого!»
Посетительница кивнула, сказала «До свидания» и боком вышла в малогабаритную дверь моего «кабинета».
«Посмотрю, что там, на следующей неделе», – решил я и три бездельных, в общем-то, дня старательно обегал взглядом толстую папку с аккуратно завязанным бантиком. Перебирал и перекладывал с места на место нужные и ненужные бумажки.
В понедельник придвинул папку к себе и распустил тесёмки. «Хорошо ещё, если здесь какая-нибудь детективная история, а не кокетливая белиберда вроде любовного романчика», – вслух сказал себе и откинул крышку.
На титульном листе сверху крупными неровными печатными буквами выведено: ЗАПИСКИ О НАШЕЙ ЖИЗНИ. Чуть ниже и мельче Анна Игоревна Севцова.
«Однако! – воскликнул я, – оказывается, ещё и о жизни пишут…».
И, проникшись скепсисом, начал читать. В конце рабочего дня я захлопнул папку, завязал петельками матерчатые хвостики и сунул рукопись в портфель.
Дома, после ужина, по давно уже заведённой привычке вышел на балкон покурить. Уселся в складное дачное креслице, специально купленное женой для балконных «прогулок». Никотин легонько расслаблял нервную систему. Снизу, с детской площадки, взвинчивался детский писк и визг. Над головой тарабанил врубленный на всю мощь телевизор. Благоверная гремела на кухне кастрюлями. Так было вчера, неделю назад, в июле прошлого года… Только сегодня на коленях у меня лежали «Записки…» Анны Игоревны.
Я читал до густых сумерек, пока буквы, напечатанные на теперь уже допотопной пишущей машинке «Москва», не начали сливаться в колеблющиеся тёмные полоски. Потом долго ещё сидел, уставившись в пустое беззвёздное небо. Городское небо. И вспоминал свое голопятое деревенское детство, студенческую веселую, полуголодную юность, родителей своих, деда с неразлучимой его Библией, друзей, соседей, коллег по школе – таких же точно людей, о каких рассказывала неизвестная мне женщина.
Совсем недавно канул в небытиё их век. Да что там говорить – наш век, тех, кто родился в серединные его годы! Сколько бы не отведено было прожить каждому из нас в наставшем двадцать первом, мы всё равно родом из того – ушедшего. Мы – дети двадцатого века.
И вот, судя по всему, моя ровесница, из немного кому за её пределами известной Пензы решила рассказать о таких, как она сама, как я, об обыкновенных людях – не звёздах, не гангстерах, не миллионерах, не убийцах. О путниках, обожжённых ветрами железного века, о тех, чьим последним пристанищем или колыбелью стали очерченные им, этим веком, пространства.
P. S. По прошествии года я беру на себя смелость предложить «Записки…» Анны Игоревны Севцовой тебе, читатель. Я переставил в рукописи некоторые главы, кое-что поправил – так, по мелочи. Надо же как-то оправдывать редакторскуюВ конце рабочего дня я захлопнул папку, завязал петельками матерчатые хвостики и сунул рукопись в портфель.
Дома, после ужина, по давно уже заведённой привычке вышел на балкон покурить. Уселся в складное дачное креслице, специально купленное женой для балконных «прогулок». Никотин легонько расслаблял нервную систему. Снизу, с детской площадки, взвинчивался детский писк и визг. Над головой тарабанил врубленный на всю мощь телевизор. Благоверная гремела на кухне кастрюлями. Так было вчера, неделю назад, в июле прошлого года… Только сегодня на коленях у меня лежали «Записки…» Анны Игоревны.
Я читал до густых сумерек, пока буквы, напечатанные на теперь уже допотопной пишущей машинке «Москва», не начали сливаться в колеблющиеся тёмные полоски. Потом долго ещё сидел, уставившись в пустое беззвёздное небо. Городское небо. И вспоминал свое голопятое деревенское детство, студенческую веселую, полуголодную юность, родителей своих, деда с неразлучимой его Библией, друзей, соседей, коллег по школе – таких же точно людей, о каких рассказывала неизвестная мне женщина.
Совсем недавно канул в небытиё их век. Да что там говорить – наш век, тех, кто родился в серединные его годы! Сколько бы не отведено было прожить каждому из нас в наставшем двадцать первом, мы всё равно родом из того – ушедшего. Мы – дети двадцатого века.
И вот, судя по всему, моя ровесница, из немного кому за её пределами известной Пензы решила рассказать о таких, как она сама, как я, об обыкновенных людях – не звёздах, не гангстерах, не миллионерах, не убийцах. О путниках, обожжённых ветрами железного века, о тех, чьим последним пристанищем или колыбелью стали очерченные им, этим веком, пространства.
P. S. По прошествии года я беру на себя смелость предложить «Записки…» Анны Игоревны Севцовой тебе, читатель. Я переставил в рукописи некоторые главы, кое-что поправил – так, по мелочи. Надо же как-то оправдывать редакторскую зарплату!
Часть I
КВАДРУГА
Фотографические снимки обладают странными чарами..,
загадочно влекут к себе; и тем сильнее, чем
старее фотография... И чем старее
фотография, тем глубже ее чары.
Александр Иванов. «Стереоскоп»
Учитель физики и классный руководитель 9 «Б» Василий Павлович Епишев вбежал в учительскую и грохнул на стол классный журнал и стопку учебников.
– Что случилось, Василий Павлович, опять «два друга»? – подняла голову от сочинения, которое проверяла, завуч Варвара Ниловна.
– Да их давно уже не «два друга», а целая квадруга! – с досадой откликнулся физик.
– Вы имеете в виду квадригу?
– Вот именно! Эти «друзья» меня скоро в гроб вгонят!
– И что они натворили на этот раз?
– Что?! Нет, вы только подумайте, Варвара Ниловна! Девятый класс! – Василий Павлович многозначительно поднял вверх указательный палец. – А ваш, извините, оболтус притаскивает в класс чёрт-те что! Во вторник пол-урока прятали под партами ободранную кощёнку. Сегодня гонялись за вороной. В буквальном смысле во-ро-ну ловили!
– Поймали? – Варвара Ниловна с трудом сдерживала смех.
– Поймали. Только пока ловили, Даршин стекло в окошке разбил. Чуть сам во двор не выпал с подоконника. А Кумарин и Кригер барабанили по парте – озвучивали, видите ли, ловлю ворон…
Варвара Ниловна уже не могла сдержать смеха, а Василий Павлович, не понимал, что тут смешного, смотрел на неё с укоризной.
В учительскую сунул нос комсорг 9 «Б» Воробейчик.
– Заходи, заходи, дружочек! – торжественным тоном пригласил Епишев. – Что сказать хочешь?
– Мне, это, журнал надо, – шмыгнув конопатым маленьким носиком, Воробейчик остановился у приоткрытой двери, словно сохраняя себе путь к отступлению.
– Вот что, Юра, возьми журнал и пригласи сюда… – Варвара Ниловна сделала паузу и продолжила ровным голосом, – пригласи сюда Заамурского, Даршина, Кумарина и Кригера.
Через пару минут – сама скромность! – перед дверью фронтом выстроилась «квадруга». Варвара Ниловна как полководец перед строем прошла перед ними, заглядывая в лицо каждому.
Кригер и Даршин явно испытывали смущение. Митя, сын, насупившись, смотрел в пол. Беззаботный Кумарин изо всех сил старался изобразить внимание, но его всё отвлекало – и портрет вождя на передней стене, и зелёный шёлковый абажур с жёлтыми кистями на столе завуча, и рассыпанные по столу физика книги.
Понимая бесполезность каких бы то ни было нотаций, Варвара Ниловна тем не менее постаралась исполнить свой долг и, сдерживая готовый прорваться смех, отчитала преступников.
– Как ты думаешь, не хватает ли нам ежедневного общения по более серьёзным вопросам? – обратилась она к сыну. – Не хочешь учиться – иди работать. Или ты в школе не для того, чтобы получить образование, а для того, чтобы доставлять педагогам сплошные огорчения?
Митя, не отводя взгляда от пола, ещё ниже нагнул голову.
– Кригер, Даршин, вы же интеллигентные люди. И вдруг – гонки за вороной! Никак от вас не ожидала подобного «учебного рвения»… А о твоем поведении, Кумарин, придётся-таки сообщить отцу.
Мальчики эти, уже почти юноши, выросли на её глазах, поднялись на скудной военной да и послевоенной пище. И хотя не давали они спокойного житья школе, в их проделках было столько детской непосредственности, такая искренность звучала в их постоянных «я больше не буду, Варвар Нилна».
– Ладно, идите, но чтобы завтра же стекло в классе было вставлено! – завершила она порицание.
Топоча и сутулясь больше обычного, виновные гуськом удалились за дверь.
Варвара Ниловна Заамурская, всегда строгая, даже немного чопорная, в тёмно-синем, облегающем фигуру костюме и белоснежной блузке с кружевным воланчиком на груди, внешностью, поведением ли напоминала дореволюционных наставниц женских гимназий. Здесь же, в советской единой трудовой мужской школе № 2 она была непререкаемым авторитетом, образцом женской элегантности и идеалом женского характера для всех этих мальчишек – полусирот войны, отпрысков столпов местного советско-партийного руководства, выходцев из прилегающих к железной дороге глухих воровских кварталов.
Она снова улыбнулась и посмотрела на Епишева. Василий Павлович уже успокоился, сложил в стопку книги и сидел, поглаживая простреленное под Бреслау плечо. Ранение было сквозным, дырки затянулись розоватой поблёскивающей, как вощёная бумага, кожицей. Рана давно не болела, а только ныла повреждённая кость – к непогоде или когда он нервничал.
Физик смущённо развёл руки – мол, что поделаешь, повзрослеют – некогда будет таскать ворон, да и охота такая отпадет… Подхватил под мышку свои учебники и пошёл на урок.
Епишева ученики за глаза называли Васей. Вполне с почтением, но и с долей иронии. Среди старшеклассников ходили разговоры, что «Вася любит мальчиков». Так ли это было на самом деле и как далеко заходила эта любовь – сказать трудно. Никаких фактов и доказательств тому не находилось, и имела ли она место вообще, или это был всего лишь дым без огня, утверждать однозначно не взялся бы никто.
Может быть, в нём просто вызрело нереализованное чувство отцовства. Он никогда не был женат. Отчасти потому, что, уйдя в город из большой голодающей деревенской семьи, поставил себе задачу вырваться из клещей нищеты. Получить образование и иметь чистую работу. Будучи студентом пединститута, чтобы прокормить себя, по ночам работал на лесоскладе – разгружал и отгружал брёвна, пиломатериалы. Было не до девушек. А потом – война, ранение, госпиталь. В госпитале Василий впервые влюбился в бледнолицую тихую медсестру Наташу, но вскоре узнал, что бегает она во время ночных дежурств на непроходную верхнюю площадку лестничной клетки, где поджидает её красавчик капитан из выздоравливающих.
Потом домом его стала школа. Он и жил-то в маленькой пришкольной квартире – считай, комнатке с совсем уж крошечной прихожей. Но и туда он уходил только спать, с утра до позднего вечера занятый уроками. В обе смены ему без зазрения совести ставили самые немыслимые «окна» – через пятое на десятое. Кроме того, он давал уроки в школе рабочей молодёжи, организованной на базе дневной школы.
Непутёвых «бэшек» Василий Павлович вёл с пятого класса и успел оценить все таланты своих подопечных. Класс был непростой. Половина мальчишек выросли без отцов, а главной их школой были пензенские проходные дворы, утопшие в земле тёмные подворотни нескольких центральных улиц и переулков да нескончаемый лабиринт окраинных кварталов.
Например, Воробейчик в школу и обратно домой ходил не иначе как по крыше, объясняя свой маршрут тем, что по земле обходить дальше и грязно.
Школьное здание выстроено было буквой П. К левому крылу его примыкал старый дровяной сарай, где хранили поломанную школьную утварь – от стульев до неизвестно когда и кем продырявленного большого глобуса, возвышавшегося над обломками. Дыра в нём была большая – будто саданул кто с размаху кулаком, и в один миг не стало половины Европы, сгинувшей в развёрзшейся чёрной утробе хищной Атлантики.
Крыша сарая заканчивалась как раз под окном квартиры Воробейчиков – в следующем за ним двухэтажном строении. Вдоль деревянного фасада его тянулась узкая галерея, стоявшая на вкопанных в землю шатких сваях. Крепившиеся к ним балки пришиты были к стене дюймовыми гвоздями и укреплены для надежности брусьями-косяками.
Воробейчик вылезал из своего окна на скрипучую галерейку, громыхал по жестяной кровле сарая, потом залезал по приставленным им же самим к школьной стене тарным ящикам в круглое слуховое окно и по чердаку гордо шествовал до пожарного лаза над запасной лестничной клеткой, предназначенной на случай эвакуации школьников.
Единственное неудобство для Воробейчика заключалось в том, что штаны и пиджак его вечно были в пыли, паутине и голубином помёте. Это вызывало насмешки одноклассников и было чревато материнскими подзатыльниками. Впрочем, с пацанами Воробейчик не церемонился – задирист был и отчаян, никогда не увиливал от драки, а до возвращения матери с завода старался вытрясти в окно пиджак, повесить его на гвоздь в прихожке и обхлопать ладонями единственные незаменяемые штаны.
К комсомольской работе Воробейчик относился с азартом и, можно сказать, с душой. Ему нравилось быть впереди, руководить товарищами, ощущать на себе внимание взрослых, всеми уважаемых людей. Он буквально расцветал и распрямлял свои хилые плечики, когда кто-нибудь из выше него стоящих мимоходом хвалил его. Хотя выше стоящими были чуть ли не все, а дождаться похвалы было непросто.
Полной противоположностью Воробейчику в классе был Митя Заамурский.
Во-первых, Воробейчик спускал ему насмешки, опасаясь, видимо, не столько тяжёлых Митиных кулаков, сколько неодобрения Варвары Ниловны. Надо отдать должное Заамурскому – он никогда не прибегал к покровительству матери, был сам по себе, а потому, что называется, «в авторитете». Впрочем, по натуре Митя был добр и незлопамятен. Будучи сильнее едва ли не всех своих одногодков, случалось, становился пострадавшей стороной – из- за своей доверчивости. Он допускал лишь форму открытого сражения, презирая хитроумные подножки и выпады из-за угла.
Озорников и даже отпетых хулиганов в классе было предостаточно, но таких «штукарей», как закадычные друзья Заамурский и Кригер – по словам Епишева – во всей школе надо было поискать. Сидели они за одной партой с первого дня учёбы.
Кригер при живых родителях жил самостоятельно. Отец его, сотрудник НКВД, находился «в длительной командировке». Епишев, многое повидавший на свете, догадывался, что это за командировка: Кригер-старший не иначе как выполнял свою миссию в одной из братских республик, присоединившихся к блоку социалистических стран после войны.
Мать же Лёвы, красивая, с большими печальными глазами женщина, страдала ногами, и даже на школьные собрания вместо нее приходила домоправительница Фрида Соломоновна, в чьи обязанности и входил присмотр за детьми. Забот этой пожилой глуховатой старушенции хватало лишь на хозяйку и малолетнюю её дочь. А «молодой человек, – заявляла она Лёве резким скрипучим голосом с неистребимым одесским акцентом, – если хочет иметь свой цимес, должен научиться вертеться».
Лёва о «цимесе» не думал. Он просто хотел жить. Получив от матери красивые чёрные глаза и непокорную шевелюру, он ещё в подростковом возрасте стал объектом женского внимания: «Ах, какой милый мальчик!» И тайных вздохов девочек из женской школы. Но он не умел, да и ленился вертеться, а потому, не обращая внимания на возгоравшуюся славу первого красавца, грубил дамам, играл с дружками в «орлянку», ватажился с ними по низовым улицам, где время от времени затевались драки с такими же компаниями «корешей». После драк устраивались мировые или, по необходимости, краткосрочные перемирия. Мальчишеская эта жизнь протекала в прижелезнодорожных кварталах старой Пензы, куда Лёва убегал из своего нового, специально для сотрудников «папиной конторы» построенного дома куда охотней, чем в школу. Однако был он страстный книгочей и неплохой рисовальщик, и, как ни странно, в шпанистой уличной компании эти его качества ценились и пользовались спросом. Нередко друзья просили его «рассказать роман», ещё чаще – «скинуть картиночку» под наколку.
После семилетки часть учеников отсеялась – поступили в школы фабрично-заводской молодёжи либо нашли работу. Из трёх седьмых набралось только два восьмых, да и те доукомплектовывали выпускниками других городских неполных школ средней ступени. В епишевский «Б» записали Даршина из четвертой Железнодорожной, Кумарина – с Поповки, братьев Борискиных – из-за Суры, из Рабочего поселка; всего двенадцать новичков.
В первый же день занятий с восьмым классом Василий Павлович принял решение рассадить «двух друзей», дабы раз и навсегда покончить с очагом будущих проделок, так сказать, ликвидировать его. Окинув взглядом своих подтянувшихся за лето и загоревших учеников, он, вызывая их по фамилиям («я», «тут», «здесь»), внимательно оглядел новеньких.
– Так, Кригер, с сегодняшнего дня ты сидишь в левом ряду, у окна, с Кумариным. А ты, Даршин, перейди на средний ряд и садись с Заамурским.
Бедный Епишев! Может, не пришлось бы ему хлопать о столешницу книгами и возмущаться «квадругой». Но если ведёт нас по жизни Судьба, то в данном случае Василий Павлович выступил её рукой.
Новички испытывали поначалу неуверенность перед настороженной массой сплотившегося за прошедшие семь лет учёбы коллектива одногодков. Но, может, потому, что Митя Заамурский был бескомпромиссно справедлив, Лёнчик Кумарин бескорыстно добр, Даршин доверчив до наивности, а Лёва Кригер – душа нараспашку, изо дня в день эта четвёрка сближалась все теснее, пока не превратилась в не разлей водой компанию.
Высокий и тощий очкарик Даршин к тому же был застенчив и краснел как девушка. Почти белый, выгоревший на солнце чубчик его и круглые очки в тонкой металлической оправе торчали над собравшимися в кружок друзьями. За кожаным в два пальца шириной ремешком, поддерживающим широковатые по талии брюки, неизменно торчала книга. Он читал на ходу, в начавших после войны курсировать по городу автобусах-«коробочках», на всех школьных уроках, потому что на уроке литературы он так и так читал, и уже довольно сильно подпортил зрение.
Василия Павловича выводило из себя не столько это запойное чтение, сколько абсолютная беспомощность Даршина перед лицом элементарнейших законов физики, простейших формул и всего того математического богатства, которое следовало за разделами «Сложение» и «Вычитание». Будь на то его, Епишева, воля, он посадил бы этого Даршина снова в пятый класс и заставил выучить, нет, просто вдолбил бы ему в голову «пифагоровы штаны», функции и корни.
Но за Даршина горой стоит Варвара Ниловна: он, видите ли, у нее «гордость школы», будущий, может быть, писатель. Василий Павлович скептически поджимал губы, но выводил-таки в даршинском табеле малюсенькие троечки по своим предметам.
– Лучше бы за своего Митю радела! – ворчал он. Вон сколько троек нахватал. А вот он-то как раз обладает недюжинными способностями в сфере точных наук.
За многие годы педагогической работы не встречалось ещё Василию Павловичу такого богом одарённого ученика, как Заамурский. Теорию он знал едва ли не шире и глубже учителя, задачи щёлкал, как революционный матрос семечки. Да и внешностью Митя походил на того матроса-авроровца: за всегда приспущенной металлической молнией вельветовой куртки виднелся треугольник вылинявшего «тельника». Юноша был широк в плечах, крепок, с чуть кривоватыми ногами, уверенно ступавшими по земле. Короткая мускулистая шея несла слегка набыченную голову с ёршиком щетинистых русых волос. Казалось, он живёт в постоянной готовности дать отпор любому посягнувшему на его независимость, если бы не глаза. Синие и добрые, они больше говорили о его натуре, чем медвежистая фигура. «Митя весь в отца, – оправдываясь, говорила Варвара Ниловна, когда кто-то из коллег жаловался ей на сына. – Знаете, он очень добрый мальчик, но… он вырос один. Я ведь пропадаю в школе денно и нощно. Но я обязательно поговорю с ним. Сегодня же, – спешила заверить она жалобщика.
Митин отец погиб в сорок третьем. Главный хирург военно-полевого госпиталя, он был похоронен на опушке леса в Западной Белоруссии, рядом с деревенькой, которой не стало на послевоенной карте.
Раскинутый среди высоченных сосен палаточный временный операционный пункт, в котором полковник медицинской службы Заамурский пытался вытянуть с того света нетранспортабельного, с торакальным ранением комдива 417-й стрелковой, накрыло прямым попаданием фашистской мины. Осталась только воронка, которую бойцы засыпали, сложив в неё останки – всё, что удалось собрать окрест. Воронка стала братской могилой.
Митя болезненно пережил смерть отца. После похоронки как-то вдруг повзрослел и замкнулся. Видимо, интуитивно ощутил хрупкость земного существования и всю свою любовь перенёс на мать. Действенно, по-мужски проявлял он это чувство. Большинство домашних дел взял на себя. Сам готовил еду, носил дрова для голландской печи, воду из колонки, отоваривал карточки, стирал и чистил свою одежду.
Но рядом с друзьями он снова становился мальчишкой. Даршинские фантазии кружили ему голову, и он затевал самые рискованные предприятия, требовавшие если уж не геройства, то отчаянности. Митя был двигателем «квадруги», он сам иногда представлял себя ядром атома, вокруг которого обращаются электроны; все вместе они были системой: выпади хоть одно звено – все превратится в хаос. Может, именно оттого и была так крепка их дружба, так бескорыстно и верно стояли они друг за друга, что призваны были не допускать этого хаоса, что не хотели, а потому и не должны были раствориться в случайной обыденности родимой Пензы, затерянной среди множества иных подобных ей мирков и миров, заполняющих Вселенную.
Лёнчик Кумарин ни о чём подобном не размышлял. Он доверчиво смотрел на мир круглыми, навсегда удивлёнными глазами трехмесячного барашка. Он любил всех: хлопотливую домовитую мать, добродушного толстяка-отца, предпочитавшего всякой другой одежде парусиновый пиджак и широкие, того же материала штаны, по его мнению, скрывавшие солидное пузцо. Любил младших своих сестрёнок-двойняшек, с такими же, как у него, барашковыми глазёнками. Любил свою школу и гимнастический зал в Доме железнодорожников, где ему уже не раз вручали Почётные грамоты за спортивные успехи и повышали разряд. Лёнчик любил глазеть на девочек на улице, и они нравились ему все поголовно. Но он даже и представить себе не мог, что с какой-то из них можно познакомиться.
В отличие от него Кригер к концу девятого класса «уже имел опыт по этой части». Митя, хоть и отмалчивался, но его тоже видели в Верхнем парке гуляющим с девочкой. Даршин был явно влюблен, только вот в кого, и сам понять не мог. А потому-то восторженно описывал красавицу-хохлушку из деревни под Воронежем, где провёл каникулы, то выкрадывал со стенда фотоателье выставленный там образец – портрет Ирочки Непринцевой с Поповой горы, или попросту с Поповки, улицы, в нижней части которой стоял одноэтажный деревянный домишко Кумариных. Непринцевы жили наверху – в казённых квартирах. Кумарину Ирочка нравилась тоже, и давно. Ещё в седьмом классе, скрываясь за разросшимся в палисаднике кустом чубушника, он поджидал, когда она, цокая туфельками по булыжной мостовой, пройдёт мимо в свою женскую школу. «Рыковка», как назвали её с тех пор, когда она носила ещё имя А. И. Рыкова, находилась в том же квартале, что и их Вторая мужская, поэтому фактически Лёнчик как бы провожал девочку. Только она, не замечая его, помахивала своим ридикюльчиком, шла легко и раскованно, а он, нахохлившись, изо всех сил делал независимый вид, опасаясь, как бы кто из ребят не догадался, почему он плетётся позади девчонки. И уж лучше провалиться ему сквозь землю, если догадается она…
Мальчики взрослели. Требовала выхода созревающая плоть, вскипало желание обладать женским телом; а одновременно романтически-туманные грёзы рисовали им впереди – вот-вот! – встречу с необыкновенной девушкой. Эти необыкновенные девушки где-то непременно должны были быть, даже, может, жили на соседних улицах, и не встречались они им по чистой случайности. Или же они жили далеко, в других местах, где-нибудь на берегу моря, в Сибири, на целине.
«Я непременно поеду туда, где встречу свою Джой. Как только окончу школу», – мечтал Даршин. Ему вспомнился маленький дворик тёти Лидиного дома – с единственным деревом посередине. Там он провёл почти три дошкольных года. Дерево каждую весну опиливали, чтобы ветви не затеняли окон нижнего полуподвального этажа. Обрезки ветвей образовали удобное «гнездо», в котором он, семилетний мальчуган, оборудовал себе НП. Из «гнезда» просматривался длинный кусок улицы и, самое главное, двор дома напротив, забранный высоким белёным забором.
Кириллу всякий раз и прежде, когда он навещал тётю, хотелось заглянуть за этот забор, любопытство так и подмывало. Но забор был «глухой». Не полезешь же по гладким, намазанным мелом доскам, и не станешь на виду у прохожих выковыривать из них сучок или перочинным ножичком прорезать щель! Так и затрещину схлопотать не заржавеет.
«Кто там живёт? Чем они занимаются?» – мучил вопрос. И вот, наконец, он, на время переселившись к тёте Лиде, оборудовал на дереве собственный наблюдательный пункт.
Вход во двор дома напротив был сзади – с параллельной их Горной улице Поповки. Ходить туда тётя Лида категорически запретила. «Побьют, – уверенно заявила она. – А я за тебя отвечаю. Так что, пока живёшь у меня, – изволь слушаться».
У тёти Кирилл жил ради прокорма. Пока отец не демобилизовался, мать работала в райцентре со смешным названием Башмаково в госпитале – по снабжению. Работа была очень хлопотная. Она моталась с двумя военнослужащими по всей области – закупали продовольствие. А потому дома бывала редко. Тётя Лида уговорила сестру на время командировок оставлять племянника на неё, а не на престарелую мать. Бабушке – меньше хлопот, а Кирилл поскорее избавится от своей дистрофии.
Тётя Лида служила главным бухгалтером в Управлении пензенских госпиталей, и недостатка в продуктах питания не испытывала. Была она характера лёгкого, весёлого, и Кириллу нравилось свободное и сытное житьё у неё. К тому же с появлением НП таинственный двор за белым забором стал как на ладони.
Он пуст. Песчаная горка, дорожка, посыпанная тем же ярко-жёлтым речным песком, какие-то чахлые кустики и небольшая лужайка, в которую вкопаны два деревянных столба с железной перекладиной наверху. «Турник, что ли?» – думает Кирилл.
И вдруг в доме напротив открывается дверь и, колыхаясь и переваливаясь с ноги на ногу, во двор выходит толстая тётка. Она зевает, широко открывает рот, задирает голову и зачем-то смотрит на небо. «Чего высматривает, самолёта ведь нет, он бы гудел», – недоумевает мальчик. Тётка шлёпает к «турнику», из кармана широкого платья достает белый клубок. Клубок превращается в широкую тесьму. «О-о, стропы парашютные…», – восхищённо шепчет Кирилл. Толстуха перекидывает стропы через турник и связывает петли дощечкой. «Качели!» – грустно вздыхает мальчик, давно мечтающий о собственных качелях. Но ему приходится довольствоваться бельевой верёвкой, перекинутой через обрубок ветви. «Попробовала бы тётя Лида сама на таких качелях покататься! И зад режет, и размаху нет никакого». Но эту последнюю мысль будто электрической волной выбило у него из головы.
Одна за другой во дворик выбегают две девочки. Совершенно одинаковые! В одинаковых платьицах, в одинаковых бантах!
Долгих два года это было тайной Кирилла. В то лето он изучил распорядок дня девочек, и даже в ущерб своим мальчишеским делам – пока они гуляли – проводил время в «гнезде». Он был влюблён, очарован. Летом они казались ему диковинными цветками – в ярких своих платьицах, весной и осенью напоминали черепашек-тортилл забавными чепчиками с отворотами, а зимой неуклюжих медвежат с шишкинской картины «Утро в лесу», копия которой висела в тёти Лидиной спальне.
Однажды он решился спросить у тёти, кто живёт в доме напротив.
– Непринцева, пианистка, – ответила та. – Кстати, не походить ли тебе на музыку? У тебя, кажется, слух неплохой. Надо как-нибудь прослушаться.
У тёти Лиды дело за словом недолго ходит. Следующим же вечером, обойдя квартал, они оказались на Поповке.
Непринцева, высокая костлявая дама в золотистом халате, перевязанном на талии кручёным поясом с кистями, заставила Кирилла побарабанить ладошками по столу и поизображать голосом какие-то «си» и «ля», выстукиваемые ей из чёрно-белых клавиш.
– У мальчика есть потенция, – заявила она, опустив крышку инструмента. – Если захотите, я буду заниматься с ним полгода, потом – пожалуйте в музыкальную школу.
За полгода занятий Кирилл ни разу не встретился в доме Непринцевых с девочками. Видимо, их специально отсылали на время уроков в детскую. А ему так хотелось посмотреть на них вблизи!
Потом он приходил к тёте Лиде только в гости – учёба в двух школах требовала много времени, а вскоре тётя и вовсе уехала из Пензы.
Одну из сестер Непринцевых он увидел несколько лет спустя на Новогоднем балу и не узнал. Тогда девятиклассникам впервые разрешили пригласить в школу девочек, и Воробейчик был делегирован в «рыковку». На праздник отпустили только активисток и отличниц – по строгому списку, заверенному директором.
«Бэшки» робели. Многие и танцевать-то не умели, смущённо подпирали стены. Девочки вели себя естественнее, хотя и их сковывала непривычная обстановка. Как рыба в воде чувствовал себя только Фимка Камневицкий – еще бы! – он занимался в балетной студии при Доме железнодорожников, а большинство ребят «брали уроки» у старших сестёр, если они были, а то и вовсе тренировались вальсировать со стульями.
Фимка танцевал с одной партнёршей – девочкой из студии. Они кружились по актовому залу, далеко откинув сцепленные ладони, и даже Василий Павлович, наблюдавший за порядком, застыл у притолоки, водя глазами за порхающей парой и напрочь забыв о своей обязанности.
Раскрасневшийся Воробейчик бегал от одной группки одноклассников к другой, шипел: «Чё стоите? Па-а-зор! Таких девчонок им пригласили, а они как шпана…».
Если бы не Кумарин, бала могло и не получиться. Лёнчик, подзадоривая друзей, пригласил сначала одну, потом другую девочку. Разошёлся и Кригер. Даже Кирилл решился на какой-то медленный танец с девочкой, имя которой тут же забыл. Забыл потому, что увидел, как Лёнчик вальсирует с необыкновенной девушкой.
Когда друзья, возбуждённые, высыпали на улицу охладиться и тайком перекурить за углом школы, Кирилл спросил Кумарина, как зовут его последнюю партнёршу.
– Ты про Непринцеву что ль? Ирочкой, сэр. Только ты зря на неё глаз положил, не выйдет! Я сам с усам!
Ребята засмеялись. Митя легонько боксанул Лёнчика в подреберье:
– Всё, Кумарин, отныне имя тебе будет Кумир. Ты, кажется, всем девушкам головы вскружил.
– Ну, уж и всем, – сконфузился Лёнчик.
Обтопав на крыльце налипший на ботинки снег, друзья вернулись в зал. Вася внимательно оглядел их, но, не заметив ничего подозрительного, снова уставился на порхающего Фимку.
В мечтах об Ирочке Непринцевой прошёл для Даршина последний школьный год. Выпускные экзамены запомнились только тем, что он ежедневно уговаривал Кумарина пойти учить билеты на Суру. Там, на небольшом пляжике под обрывом, рядом с новым железнодорожным мостом, в мелком ивнячке был у них постоянный закуток. Кириллу и в голову не приходило, что именно здесь давным-давно определилась перспектива его появления на свет, – когда два закадычных друга и соперника наперебой сделали предложение Ирине Ликуновой, и она – по недолгому размышлению – предпочла его отца.
Теперь на пляже этом загорала и купалась лишь мелкота из ближайших домов, но место, облюбованное старшеклассниками, либо не занимали вовсе, либо освобождали, едва они появлялись на обрыве.
Кирилл обычно заходил за другом, когда тот завтракал. Кумир уплетал блины, подкладываемые ему с пылу с жару стоящей у плиты матерью. Лёнчик, с набитым ртом, махал руками и мотал головой – не пойду. Прожевав, протестовал:
– Нынче холодно, дома буду учить.
Тогда Даршин доставал из кармана ввосьмеро сложенную газету, аккуратно расстилал её на полу и молча становился на колени. С уморительно-умоляющим выражением на лице он протягивал к другу руки. Кумир сдавался. Ритуал этот продолжался почти всё лето, потому что за выпускными экзаменами последовала подготовка к вступительным в институт. Всего три дня отвели друзья на отдых. Купили вина, еды, взяли напрокат лодку на лодочной станции и ушли вверх по Суре к Печарскому затону с безлюдными белопесчаными берегами, окруженному величественным сосновым лесом. Росстанная, чисто мужская компания, мальчишник. Пили вино, плескались в прозрачной, прохладной, пахнущей хвоей воде, пели песни, фотографировались на память новым «ФЭДом», подаренным Кригеру отцом по поводу успешного окончания школы. Говорили о будущем.
Даршин давно уже решил поступать на историко-филологический в пединститут – здесь же, в Пензе. Туда же нацелился Кумарин. Митя выбрал прославленный Ленинградский физтех, а за компанию с ним надумал рвануть в Питер и Кригер.
СОДЕРЖАНИЕ
От издателя.
Часть I. Квадруга.
Часть 2. Точки отсчёта.
Часть 3. Просто, просто, просто…
Часть 4. Поиск.
Часть 5. В пределах времени.
Рассказ Николая Киприановича Даршина.
Часть 6. Ветви дерева.
Часть 7. Так было всегда.
Часть 8. Выпали им дороги.
Часть 9. Цугом вытянем.
Д. Лобузная. Роман о Пензе (Опыт лирического послесловия.)